Статья посвящена малоизученному сюжету из жизни архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова) в бытность его наместником Свято-Успенского Жировицкого мужского монастыря. В статье описываются события 1964 года. В то время в обители пребывали 21 человек братии и 57 монахинь из двух закрытых монастырей: Гродненского и Полоцкого. В период латентного гонения на Церковь в так называемую «Хрущёвскую оттепель» архимандриту Михею пришлось положить немало трудов для отстаивания монастырского имущества и существования монашеских общин. Советская власть по всей своей вертикали пыталась разными способами воздействовать на наместника, принуждая его к незаконной передаче монастырских зданий, что в дальнейшем могло привести к фактическому закрытию монастыря. В статье на материале документов Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива Гродненской области, а также архива Жировицкого монастыря реконструируются этапы противостояния между обителью и райисполкомом за право пользования зданиями на территории монастыря. Архимандрит Михей искусно выстраивал отношения между различными уровнями советской власти, опираясь на поддержку Патриархии и правящего архиерея. Хотя монастырь лишился некоторых зданий и части своих земель, но главное — был сохранён от закрытия, не прекратил своё существование, не утратил жизнеспособность и независимость устройства монашеских общин.

Александр Хархаров (будущий архиепископ Михей) родился 6 марта 1921 г. в Петрограде в благочестивой семье. Его родителями были Александр Кузьмич и Анастасия Савиновна Хархаровы. Александр Кузьмич имел ювелирную мастерскую по изготовлению серебряных окладов для икон, рак для мощей и другой церковной утвари[1]. Анастасия Савиновна происходила из Новгородской губернии, её родители были из крестьян. В семье Хархаровых Александр был самым младшим из пяти детей[2]. Рано потеряв отца, он вкусил горечь лишений, когда его семья из состоятельной стала практически нищей. По этой причине Анастасия Савиновна была вынуждена отдать двух своих детей — Тамару и младшего Александра, в детский дом. В Петрограде Александр подружился с Константином Вендландом, будущим митрополитом Ярославским и Ростовским Иоанном, который, в свою очередь, познакомил его с архимандритом Гурием (Егоровым). Отец Гурий был одним из основателей Александро-Невского братства и оставался его хранителем, став архиереем и закончив свои дни на Симферопольской кафедре. Митрополит Гурий воспитал целую плеяду архиереев, священников и мирян в любви к традициям Русской Православной Церкви. Александр Хархаров был одним из ближайших учеников и помощников Преосвященного Гурия. Он последовал за ним в Среднюю Азию, там окончил школу и пошёл на фронт после первого курса медицинского института. Служил в войсках связи, был награждён боевыми медалями. По окончании Великой Отечественной войны в 1946 году активно помогал архимандриту Гурию подготовить к открытию Троице-Сергиеву лавру и следовал за своим аввой, куда бы того ни призвал Божественный Промысл — Ташкент, Саратов, Днепропетровск, Минск… Везде занимал должности ключаря кафедрального собора или личного секретаря и казначея. Параллельно учился в Московской духовной семинарии, которую окончил в 1951 году по первому разряду. В 1953 году подвизался в Глинской пустыни, перенимая опыт немечтательного делания у известных старцев, ныне причисленных к лику святых — преподобных Серафима (Амелина), Серафима (Романцова), Андроника (Лукаша). Время священнического служения отца Михея выпало на период хрущёвских гонений, когда духовенство уже массово не расстреливали и не ссылали в лагеря, но государство продолжало системную борьбу с Церковью, постепенно закрывая под разными предлогами монастыри, храмы и духовные школы. Подобная ситуация складывалась и в Белоруссии. Закрыв Минскую духовную семинарию, советская власть республики сосредоточила своё внимание на Свято-Успенском Жировицком мужском монастыре. Древняя намоленная обитель осталась практически последним оплотом православия на Белой Руси. В это время Преосвященного Гурия переводят из Минска на Ленинградскую кафедру, а отца Михея возводят в сан архимандрита и утверждают наместником мужского монастыря в Жировицах.
Архимандрит Михей принял Жировицкую обитель под своё руководство 8 октября 1963 года. К этому времени ему было сорок два года. Талантливый и очень энергичный человек. Фронтовик, с огромным опытом устроения церковной жизни, прекрасный хозяйственник, горячий молитвенник и мудрый духовник. При этом он был знаком со многими архиереями и лично с Патриархом Алексием (Симанским), а с его секретарём находился в хороших отношениях, можно сказать, что тот ему покровительствовал.
В то время в обители пребывали 21 человек братии и 57 монахинь из двух закрытых монастырей: Гродненского и Полоцкого. После вступления в должность наместника сразу же встал вопрос, что делать со зданием и имуществом закрытой Минской духовной семинарии, располагавшихся на территории монастыря и являвшихся собственностью Московской Патриархии.

Архиепископ Михей в своих воспоминаниях отмечал: «Уполномоченный по Гродненской области при моём назначении предупредил, чтобы здание семинарии не занимали. Власти намерены были разместить в нём ремесленное училище, что угрожало существованию самого монастыря с его последующим закрытием. Архиепископ Минский и Белорусский Сергий (Петров) потребовал от меня расписку в том, что монастырь не нуждается в этом здании. Посоветовавшись с матушкой игуменией и испросив её святых молитв, мы составили письмо на имя правящего архиерея о том, что это здание крайне нужно монастырю, так как в данный момент два монастыря, и мужской, и женский, находятся в одном здании, что противоречит канонам, к тому же в большой тесноте»[3].
На устный запрос архиепископа Сергия относительно использования здания бывшей семинарии архимандрит Михей 13 января 1964 г. представил рапорт с ходатайством бывшей игумении Гродненского монастыря Гавриилы (Рысицкой). В нём, в частности, было предложено: «Указанное… здание безусловно нам необходимо для расселения проживающих насельников в монастыре. В данном обещании Святейшему Патриарху строго изолировать сестёр в отдельное помещение от братьев не представилось возможным. Мы вынуждены были поселиться в одном корпусе с братьями в отдельном коридоре. Если бы представилась возможность братии перейти в здание семинарии и освободить занимаемую ими часть корпуса, тогда бы мы были действительно изолированы от них путём перевода из перенаселённых келий и переселения из подколокольных пристроек, находящихся вне ограды»[4]. Архимандрит Михей добавил, что полностью поддерживает решение игумении Гавриилы, и попросил ходатайства правящего архиерея перед Патриархом о предоставлении семинарского здания для размещения братии монастыря.
Позже архиепископ Михей вспоминал: «Посоветовавшись с (.) Даниилом Андреевичем, личным секретарём Святейшего Патриарха Алексия I, мы перевели в это здание сестёр Гродненского монастыря. Это спасло Жировицкий монастырь от вторжения на его территорию ремесленного училища и вместе с тем улучшило быт сестёр монастыря»[5].
Решением Патриарха Алексия была создана Ликвидационная комиссия Минской духовной семинарии, от которой 6 апреля 1964 г. наместник Жировицкого монастыря архимандрит Михей принял по акту здание семинарии со всеми пристройками, имуществом и инвентарём «во временное пользование для размещения и переселения быв[ших] сестёр Гродненского и Полоцкого монастырей для проживания и других нужд». Монастырь брал на себя обязательство указанные в акте здания с имуществом и инвентарём «содержать и хранить в порядке и сохранности»[6].
Произошло это переселение оперативно, по всей видимости, в ночь с 6 на 7 апреля, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, так как уже 8 апреля архимандрит Михей рапортом доложил архиепископу Сергию, что размещение монахинь в здании бывшей семинарии «произведено по указанию и в присутствии представителей Московской Патриархии, прибывших в Жировицкий монастырь по назначению Хозяйственного Управления»[7].
Патриарх Алексий одобрил действия наместника Жировицкого монастыря, чему свидетельствует его резолюция от 11 апреля 1964 г.: «Нахожу вполне справедливым и своевременным переселение монахинь Гродненского и Полоцкого женских монастырей и передачу имущества семинарии Жировицкому мужскому монастырю. Таким образом устраняется нарушение канонических церковных Правил 7-го Вселенского Собора, прав[ило] 20: “Определяем не быти монастырям двойным”. И в дальнейшем нам нужно иметь попечение о переселённых монахинях Гродненского и Полоцкого монастырей, приняв во внимание, что они не по своей воле прибыли сюда из своих обителей, в которых имели и соответствующее помещение, и удобства во многих отношениях, необходимых с их положением, как монахинь»[8]. Резолюция поступила официальным письмом из канцелярии Московской Патриархии 2 мая в адрес архиепископа Минского и Белорусского Сергия, архимандрита Михея и игумении Гавриилы.
Таким образом, местные власти не смогли заполучить трёхэтажное здание бывшей семинарии, но своих захватнических планов они не оставили. 9 апреля 1964 г. архимандрита Михея вызвал председатель Слонимского райисполкома С. Т. Кабяк, который сообщил, что считает утратившим силу договор на главное здание монастыря (двухэтажный братский корпус) и бывший преподавательский корпус ввиду окончания срока договора. Но никаких письменных указаний от властей не последовало. Вечером того же дня наместник монастыря получил по почте документ за подписью председателя Жировицкого сельсовета И. Д. Игнатовича следующего содержания: «Исполком Жировичского сельского Совета настоящим предупреждает Вас, что занимаемые здания Вашими жильцами, одно двухэтажное, другое одноэтажное, принадлежащие сельскому Совету, Вы должны освободить в течение 5-ти дней, в противном случае дело будет передано в народный суд»[9].
Эта бумага, хотя и была написана в ультимативной форме, но, по мнению архимандрита Михея, носила частный характер, так как была без штампа и номера (только за подписью И. Д. Игнатовича), и в ней не были указаны причины и основания, по которым монастырские здания должны быть освобождены. Тем не менее председатель райисполкома С. Т. Кабяк пытался принудить архимандрита Михея принять данный документ к исполнению, но тот категорически отказался. В тот же день наместник Жировицкого монастыря сообщил архиепископу Сергию об этом инциденте[10].
О сложившейся ситуации архимандрит Михей рапортом от 15 апреля 1964 г. доложил Патриарху Алексию. Наместник сообщил, что не может выселить братию из главного корпуса, так как не имеет других помещений для их проживания. И отметил, что распоряжение председателя сельсовета является односторонним и незаконным, так как в 1954 г. был заключён бессрочный арендный охранный договор[11], по которому монастырю были переданы архитектурные памятники: Успенский собор (1613 г.), Явленская церковь (1672 г.), Крестовоздвиженская церковь (1679 г.) и главный корпус (1613 г.). Все эти здания являлись единым архитектурным ансамблем. Архимандрит Михей обратил внимание Патриарха на то, что по закону расторжение договоров возможно лишь в судебном порядке и в строго определённых случаях, но таковые причины до сегодняшнего дня не возникали. И попросил возбудить ходатайство об отмене предложения сельсовета[12].
Наступление на монастырь со стороны местных властей продолжилось. В апреле 1964 г. Слонимский райисполком предпринял попытку сломать часть монастырской ограды с целью дальнейшего отторжения территории у Жировицкого монастыря. 27 апреля в Жировицы прибыл представитель Московской Патриархии С. И. Филиппов, командированный для ознакомления с положением дел монастыря. Архимандрит Михей вместе с ним и экономом иеродиаконом Евфимием (Байдаковым) выехали в Слоним на встречу с председателем райисполкома С. Т. Кабяком, который по итогам переговоров пообещал, что до 15 мая ничего ломать на территории монастыря не будут, взамен просил письменное согласие на передачу здания бывшей семинарии. С. И. Филиппов обещал доложить Патриарху Алексию о положении дел и предложении С. Т. Кабяка. Вдобавок монастырь пообещал не засевать площадь, указанную председателем райисполкома.
Однако на следующий день ситуация повторилась, рабочие продолжили ломать ограду. На повторной встрече с С. И. Филипповым председатель райисполкома зачитал обращение в облисполком, чтобы им разрешили занять главный монастырский корпус под местную больницу. В качестве аргументов он привёл сведения, что монастырь занимает слишком большую площадь, и «на каждого насельника монастыря приходится много кв[адратных] метров полезной жилой площади». Райисполком также планировал отрезать участок площадью в две трети от территории монастыря для устройства больничного парка. Об этом инциденте архимандрит Михей 5 мая 1964 г. доложил архиепископу Сергию[13].
Но местные власти в очередной раз нарушили договорённости — 11 мая учащиеся и преподаватели Жировицкого сельхозтехникума по распоряжению председателя Слонимского райисполкома С. Т. Кабяка сломали около 100 метров монастырского забора, огораживающего сад и огород обители, и перенесли его, тем самым отделив две трети всей обрабатываемой монастырской земли. Об этом происшествии был составлен акт, подписанный архимандритом Михеем, игуменией Гавриилой и иеродиаконом Евфимием (Байдаковым)[14].
По всей видимости, по прибытии в Москву С. И. Филиппов доложил о сложившейся ситуации Патриарху Алексию. Патриарх 9 мая 1964 г. направил председателю Совета по делам Русской Православной Церкви В. А. Куроедову письмо, в котором привёл исторические сведения о Жировицком монастыре, перечислил храмы и святыни, и указал, что в обители проживают монахи, а также монахини ликвидированных женских обителей, недавно размещённые в здании бывшей семинарии. В письме Святейший Патриарх изложил свою просьбу: «Нахожу нужным просить Совет оградить Жировицкий монастырь от участившихся попыток местных властей вселения в него посторонних лиц и учреждений, вопреки имеющемуся бессрочному охранному договору, что нарушило бы целостность монастыря, который в течение столетий жил своей нормальной церковной жизнью с монастырским укладом. В настоящее время этот монастырь может послужить и другим нуждам Церкви. Именно: ко мне, в Патриархию, поступают многочисленные просьбы и жалобы от рассеянных по разным городам и селениям престарелых и больных духовных лиц, не имеющих ни средств, ни нормальных условий жизни, ни возможности устройства в инвалидные дома по своему духовному положению. Кроме того, большое количество монашествующих в старческом возрасте осталось бесприютными. Также имеется 23 человека престарелых заштатных архиереев, которым приличествует жить в монастыре, чем среди частных лиц на гражданских квартирах. В устранение нежелательных толков… в связи с этим, я нахожу нужным просить Совет получить разрешение от соответствующих органов власти — не чинить препятствий к поселению в Жировицком монастыре находящихся на покое епископов, престарелых заштатных священнослужителей и монахов-инвалидов, с использованием для этой цели зданий, находящихся в Жировицком монастыре. Подобное гуманное решение несомненно вызовет благоприятный отклик как в нашей стране, так и за рубежом, в противовес ложным слухам об ущемлении прав и тяжёлом положении духовенства в Советском Союзе»[15].
На письме стоит резолюция Куроедова от 15 мая 1964 г.: «тт. Фурову В. Г., Казызаеву Г. С. Внесите предложения (как мы условились)». На этом же письме присутствует и помета Казызаева от 13 июня 1964 г.: «Все вопросы решены на месте»[16].
Этот вопрос имел следующее продолжение. Председатель Гродненского облисполкома Н. П. Молочко направил председателю Совета по делам Русской Православной Церкви В. А. Куроедову письмо, в котором поддержал ходатайство Слонимского райисполкома об изъятии излишней жилой площади у Жировицкого монастыря. При этом он отметил: «Наместник монастыря архимандрит Михей (Хархаров А. А.) несмотря на предупреждение сельского Совета и райисполкома, способствует самовольному вселению лиц в монастырские здания, чем вынуждает вмешиваться прокуратуру и суд и принимать меры к их выселению»[17].
Облисполком просил Совет по делам Русской Православной Церкви дать своё согласие на изъятие трёх зданий, включая двухэтажный братский корпус и столовую, которые планировалось использовать для размещения Жировицкой больницы, чьи помещения находились в аварийном состоянии. Также в планы местных властей входило урезание земельного участка монастыря с 4,5 га до 2 га. В пользовании монастыря предлагалось оставить трёхэтажное здание бывшей семинарии, деревянный корпус и подсобные строения (баню, прачечную, мастерскую и сараи). На этом документе стоит помета Г. С. Казызаева от 20 мая 1964 г.: «19/V-64 г. т. Куроедов договорился с Патриархом об освобождении помещений монастыря и переходе монашествующих в бывшее здание духовной семинарии»[18].
Архимандрит Михей получил из Москвы письмо, датированное 25 мая 1964 г., которое начиналось приветствием: «Ваше Высокопреподобие, глубокочтимый о. Наместник…». Автор неизвестен (имя и фамилия под этим письмом не стоят), оно подписано следующим образом: «Ваш слуга и почитатель». Предположительно, это был Сергей Иванович Филиппов, заведующий хозяйственной частью Учебного комитета (ранее — секретарь ОВЦС), входивший в окружение Д. А. Остапова. Был представителем Московской Патриархии при передаче зданий закрытой в 1963 г. Минской духовной семинарии и Жировицкого монастыря. Присутствовал на празднике Жировицкой иконы Божией Матери 20 мая 1964 г., о чём написал статью, опубликованную в «Журнале Московской Патриархии»[19].
В этом письме автор сообщил наместнику Жировицкого монастыря о том, что Патриарху Алексию «со всеми подробностями и впечатлениями» было доложено о прошедшем праздновании Жировицкой иконы Божией Матери, что доставило Святейшему Патриарху большую радость, и он выразил отцу наместнику свою благодарность за понесённые труды. Также Патриарх одобрил и благословил намерения архимандрита Михея по защите обители от посягательств местных властей на монастырские здания. Автор письма сообщил, что Патриарх Алексий имел беседу с В. А. Куроедовым, и последний обещал прислать из Москвы представителя, который вместе с республиканским уполномоченным на месте проверят притязания местных властей. Подспорьем наместнику в этом вопросе, по мнению автора, должны были быть письма Патриарха к председателю Совета по делам Русской Православной Церкви, резолюции Его Святейшества о расселении монахов и монахинь, документы на монастырскую землю и бессрочный охранный договор. «Спокойно, уверенно доказывайте Ваше право и Ваши нужды, — советовал автор письма, — просите о соблюдении законности, но не давайте никаких словесных, а тем более письменных обещаний — на это у Вас нет прав и полномочий. Ваше дело объективно доложить, а решает Москва»[20].
28 мая 1964 г. уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по БССР Г. В. Ковалёв вызвал к себе архимандрита Михея и зачитал ему обращение Гродненского облисполкома в Совет по делам Русской Православной Церкви с просьбой об изъятии у монастыря излишней площади. На следующий день, 29 мая, наместник Жировицкого монастыря рапортом доложил Патриарху Алексию, что облисполком неправильно информирует В. А. Куроедова о занимаемой монастырём жилой площади, неверны и сведения о вселении наместником в монастырские помещения посторонних лиц и покровительстве лицам, имеющим жилую площадь в других местах.
Архимандрит Михей сообщил Святейшему Патриарху, что согласно заявлению Г. В. Ковалёва Совет по делам Русской Православной Церкви дал своё согласие на выселение монахов из братского корпуса, а уполномоченный предложил наместнику выселить братию из занимаемого ими помещения. Действуя согласно инструкции, архимандрит Михей ответил Г. В. Ковалёву, что он не имеет таких прав и полномочий, вопрос об освобождении здания должен решаться Патриархией. Дополнительно наместник предъявил уполномоченному копию письма Патриарха Алексия В. А. Куроедову, но тот заявил, что письмо к делу не относится. Архимандрит Михей отметил в рапорте: «Республиканский уполномоченный Ковалёв Г. В. стал меня укорять в том, что я не советский человек, что я двуличный, грозить, что я здесь долго не буду и пр., на что я, конечно, возражал, но без резкостей»[21].
На этом рапорте стоит резолюция Патриарха Алексия от 3 июня 1964 г.: «Пр[еосвященному] м[итрополиту] Пимену[22]. Прошу переговорить с Владимиром Алексеевичем Куроедовым по вопросу об оставлении зданий монастыря за монастырём в связи с моим ходатайством об этом перед Советом от 9 мая с. г.»[23]. На том же документе стоит помета Г. С. Казызаева от 13 июня 1964 г.: «Все вопросы решены на месте и доложено митр[ополиту] Пимену»[24].
Появилась эта помета после того, как 8 июня в Жировицы прибыл из Москвы член Совета по делам Русской Православной Церкви Г. С. Казызаев в сопровождении уполномоченного по БССР Г. В. Ковалёва. В поддержку архимандрита Михея прибыли: из Минска архиепископ Сергий (Петров) и секретарь епархии протоиерей Виктор Бекаревич, а из Москвы — представитель Хозяйственного управления Московской Патриархии инженер П. И. Булычев и заместитель секретаря Учебного комитета С. М. Костюк.
Представители Совета «тщательно» осмотрели все монастырские храмы и здания, а «с особым вниманием» — одноэтажное деревянное строение (старый учебный корпус бывшей семинарии), признанное комиссией Хозяйственного управления непригодным для жилья. Г. С. Казызаев сверил свои данные о монастырской жилой площади с данными по официальным документам и осмотрел территорию монастыря.
Архимандриту Михею даже при поддержке представителей Московской Патриархии не удалось убедить члена Совета по делам Русской Православной Церкви, что старое деревянное одноэтажное здание бывшей семинарии непригодно для жилья. Г. С. Казызаев посчитал, что здание вполне пригодно для проживания при условии его ремонта и переоборудования: необходимо было устроить центральное отопление вместо печного, провести водопровод и канализацию, сделать перепланировку комнат, отремонтировать крышу, утеплить потолок и стены, произвести покраску. Наместник подчеркнул, что у монастыря нет таких средств для капитального ремонта.
Тем не менее Г. С. Казызаев довёл до представителей Церкви свои решения: 1) главное двухэтажное каменное здание (братский корпус) необходимо передать райисполкому для размещения в нем Жировицкой больницы; 2) колокольню с двумя каменными пристройками передать райисполкому, а проживающих в них сестёр перевести в трёхэтажное здание бывшей семинарии (при этом сделать это 12 июня, не дожидаясь согласия Патриархии); 3) здание бывшего преподавательского корпуса, занятое лицами, не имеющими отношения к монастырю, отходит в пользу государства; 4) одноэтажное деревянное здание необходимо отремонтировать в течение одного — полутора месяцев, и перевести в него братию монастыря; 5) участок площадью примерно 16 соток отходит больнице вместе со зданием; 6) изолировать здание будущей больницы от монастыря, закрыв наглухо двери со стороны Никольской церкви; 7) перенести на прежнее место монастырскую ограду, пострадавшую от распоряжения председателя райисполкома.
Наместник монастыря, пользуясь случаем, согласовал с московским представителем Совета вопрос частичного ремонта и покраски крыши Успенского собора и необходимого ремонта трёхэтажного корпуса бывшей семинарии. Г. С. Казызаев не возражал против этого и даже пообещал позвонить в Московскую Патриархию в отношении выделения средств для ремонта одноэтажного деревянного здания для братии и корпуса бывшей семинарии. Инженер П. И. Булычев составил смету на необходимый ремонт. Все эти сведения архимандрит Михей 10 июня сообщил рапортом Патриарху Алексию и просил дать соответствующие указания[25].
На данный рапорт Святейший Патриарх 16 июня наложил резолюцию: «Рапорт читал; по данным вопросам ответ последует через Совет по делам РПЦ, куда мною будет сообщено моё заключение»[26].
Создаётся впечатление, что руководство Совета по делам Русской Православной Церкви решило проигнорировать ходатайство Патриарха Алексия об оставлении монастырских зданий за Жировицкой обителью. Приехавший в Жировицы член Совета Г. С. Казызаев действовал решительно, предъявив, по сути, ультиматум наместнику монастыря в присутствии епархиального архиерея, последний, похоже, даже не возражал. И это решение Совета было доведено до Патриарха через митрополита Пимена.
Крайне невыгодное для монастыря решение требовало контрдействий со стороны Московской Патриархии, и Патриарх Алексий 13 июня вызвал к себе в одесскую резиденцию архимандрита Михея для консультаций[27]. Скорее всего, на встрече наместник сообщил Патриарху о том, что братский корпус является проблемным в плане переоборудования под больницу и предложил использовать это в качестве аргумента. Но, понимая, что Совет по делам Русской Православной Церкви просто так не изменит своего решения, Патриарху Алексию необходимо было что-то предложить взамен.
24 июня 1964 г. Патриарх Алексий повторно (в дополнение к ходатайству от 9 мая) письмом из Одессы обратился к председателю Совета по делам Русской Православной Церкви В. А. Куроедову, сославшись на рапорт наместника Жировицкого монастыря архимандрита Михея, содержавший принятые в Жировицах решения Г. С. Казызаева.
Патриарх Алексий попытался предложить вариант, альтернативный решениям Совета, используя различные аргументы. Сначала он акцентировал внимание В. А. Куроедова на том факте, что братский корпус, передаваемый под больницу, был возведён в начале 17 века, имел большую толщину стен, построенных не из кирпича, а камня-кругляка. Для переоборудования понадобился бы капитальный ремонт, так как здание не имело общего коридора, а было разделено на три изолированных помещения с отдельными входами и лестницами. К тому же фундамент этого здания не имел изоляции, а потому в корпусе присутствовала значительная сырость.
Далее Патриарх на основе вышесказанного сделал свои выводы: «Нетрудно себе представить, как нелегко, если совсем невозможно, этот корпус привести в состояние санитарных и гигиенических условий, которые необходимы для современной больницы. … и это, конечно, займёт, немало времени, и вся территория монастыря будет на долгое время местом усиленных работ, шума и, естественно, в таких случаях беспорядка. Одним словом, соединение на сравнительно небольшом пространстве двух несродных между собою, при существующих условиях, учреждений представит с самого начала, равно как и в дальнейшем, и прежде всего для больницы, больше неудобств, чем удобного и приятного совместного существования»[28].
После аргументов и выводов последовало предложение Патриарха: «Принимая во внимание решение не уничтожать монастырь с его древними святынями и храмами, привлекающими с незапамятных времён много молящихся, как православных, так и католиков, и известного не только у нас, но и за границей по своей исторической ценности памятника, и имея в виду всё же неподходящее для современной больницы пребывание ея в стенах обители в таком непосредственном соседстве с ея храмами и постоянными службами церковными, при большом скоплении молящихся, особенно в праздники, следует найти другой способ устройства для больницы удобных и во всех отношениях соответствующих санитарных условий. Таким выходом из трудного положения могло [бы] быть предоставление Патриархией вместо монастырских древних строений, требующих существенного переоборудования, необходимых денежных средств для постройки нового больничного здания на свободном и более обширном пространстве, чем какое имеется в ограде монастыря. Примером такого отношения к нуждам населения со стороны Патриархии является постройка пяти трёхэтажных домов в Загорске для освобождающих Лаврские помещения семейств. А также оборудование Патриархией целого госпиталя в Бейруте для местных жителей. Строить новую больницу будет, разумеется, местное больничное начальство, но необходимые для этого средства будут незамедлительно переведены Патриархией по предоставленной смете. В конечном результате местное население получит настоящую, отвечающую современным требованиям санитарии и гигиены больницу. И сохранится, как и предположено, полностью Жировицкий монастырь»[29].
Обращение Патриарха Алексия к В. А. Куроедову с предложением построить здание больницы на средства Московской Патриархии, к сожалению, не имело успеха — здания в итоге отошли сельсовету[30]. Совет по делам Русской Православной Церкви имел твёрдое намерение — если не закрыть монастырь, то хотя бы ограничить его воздействие на верующих.
По всей видимости, московское руководство Совета поощряло действия своих уполномоченных и местных органов власти, если это приносило результаты в борьбе с Церковью. Поэтому в дополнение к решениям Совета добавились провокации на местном уровне. 27 июня 1964 г. архимандрит Михей рапортом доложил архиепископу Сергию, что 21 июня, в праздник Святой Троицы, Жировицкий монастырь посетил во время богослужения председатель Слонимского райисполкома С. Т. Кабяк. Вечером следующего дня он же приехал в монастырь в сопровождении начальника паспортного стола, заведующего райфинотделом, секретаря Жировицкого сельсовета и милиционера. Приехавшие лица произвели проверку по кельям и другим помещениям с целью выявления ночующих богомольцев, а также произвели финансовую проверку кассовых документов и наличных денег.
23 июня архимандрита Михея вызвал к себе председатель райисполкома с вопросом: не получил ли наместник каких-либо указаний из Минска? В тот же день повторную финансовую проверку провели заведующий райфинотделом С. П. Хомич в компании со старшим налоговым инспектором И. Е. Салейко — они тщательно изучали оформление кассовых документов и наличие денег в кассе[31]. По итогам проверки был составлен акт, в котором были отмечены излишки денежных средств в кассе, несвоевременность оформления рапортичек и др. недочёты. Со стороны монастыря акт подписали эконом, казначей и бухгалтер[32]. Вряд ли претензии имели целью соблюдение финансового порядка, скорее всего, они были направлены на дискредитацию монастыря, его руководства и психологическое давление.
Помимо привлечения сотрудников паспортного стола и финансовых проверяющих организаций местные власти для достижения своих целей задействовали и ресурсы медицинских учреждений и санэпиднадзора. 24 июня председатель Слонимского райисполкома С. Т. Кабяк подписал распоряжение следующего содержания: «В связи с поступившими сигналами в Слонимский Райисполком об антисанитарном состоянии зданий и территории Жировицкого монастыря, проведении религиозных обрядов в самой церкви служителями культа с нарушением санитарных норм,… обязать глав[ного] сан[итарного] Врача тов. Лобасенко Т. П. силами медработников СЭО произвести эпидобследование зданий и территории монастыря, церкви, расположенной на территории монастыря, с производством необходимых анализов. Результаты обследования представить в Райисполком к 1 июля 1964 года»[33]. О результатах обследования доподлинно ничего неизвестно, но вполне очевидно, что был объявлен ультиматум закрытия всего монастыря, если наместник не пойдёт на компромисс.
15 июля 1964 г. председатель Слонимского райисполкома С. Т. Кабяк написал письмо напрямую в Хозяйственное управление Московской Патриархии, в котором сообщил, что в связи с исключением Минской духовной семинарии из числа действующих учебных заведений и передачей здания семинарии Жировицкому монастырю райисполком расторгает договор. Так как насельники «свободно могут разместиться» в здании бывшей семинарии, то монастырю нецелесообразно арендовать помещения. В связи с этим С. Т. Кабяк просил Хозяйственное управление дать указание на передачу Жировицкому сельсовету жилых помещений двухэтажного братского корпуса, бывшего преподавательского корпуса и жилых помещений при колокольне[34].
В тот же день, 15 июля, был подписан акт о передаче указанных зданий на баланс Жировицкого сельсовета «в соответствии с просьбой исполкома Слонимского районного Совета депутатов трудящихся и рекомендацией Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР». Помимо наместника Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) акт подписали и представители Хозяйственного управления Московской Патриархии: П. И. Булычев, С. И. Филиппов, И. И. Паркинсон. В акте было указано, что здания передаются в период с 15 июля по 15 августа, при этом «сельсовет и райисполком оказывают содействие в отпуске монастырю строительных материалов»[35].
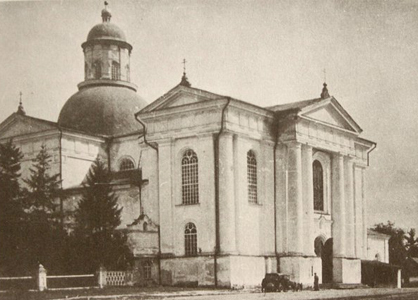
Несмотря на определённую сдачу позиций, наместник не опускает руки и бьётся до последнего. На следующий день после подписания акта, 16 июля, архимандрит Михей написал письмо Д. А. Остапову, в котором «осмелился изложить свою просьбу о неотложных нуждах монастыря». В первую очередь речь шла об оставлении колокольни Жировицкого монастыря при передаче двух зданий с жилыми помещениями, пристроенных к звоннице.
Наместник монастыря сообщил следующее: «В настоящее время мы ей не пользуемся, потому что у нас звон запрещён, но монастырь без колокольни потеряет красоту внешнего вида, ибо нарушится гармония. Нельзя ли попросить Г. С. Казызаева о том, чтобы оставили саму колокольню за монастырём или, по крайней мере, не снимали бы купол и крест, и тем самым не нарушили бы общего вида всего архитектурного ансамбля. Председатель Райисполкома Кабяк С. Т. говорил нам о том, что, по его мнению, недопустимо, чтобы над жилым помещением возвышался бы купол и крест»[36].
Вторым вопросом в письме был срок выселения монахов из братского корпуса. Архимандрит Михей сообщал о том, что председатель райисполкома категорически настаивает на освобождении здания к 15 августа, но этот срок является нереальным по причине того, что невозможно сделать капитальный ремонт в течение месяца. Все убеждения, по словам наместника, были напрасными, и при невыполнении требования к монастырю могли быть применены административные меры. В связи с этим архимандрит Михей просил Д. А. Остапова договориться с Советом по делам Русской Православной Церкви о более позднем сроке переселения братии монастыря.
Финал истории с переселением состоялся 26 августа 1964 г., о чём архимандрит Михей сообщил архиепископу Сергию на следующий день: «Вчера… братский корпус полностью был освобождён, братия монастыря переселены в ремонтируемый деревянный корпус. Ключи от всех дверей забрал председатель Райисполкома и по его распоряжению завхозом больницы повешены замки на входные двери в корпус. Ремонтные работы в деревянном корпусе ещё не окончены»[37].
В то же время настойчивые просьбы наместника и обращения его в Патриархию о содействии в ремонтных работах Жировицкого монастыря принесли положительные результаты. 22 сентября архимандрит Михей письменно поблагодарил Патриарха Алексия: «Позвольте мне, Ваше Святейшество, выразить Вам от своего имени и имени братии и сестёр — всех насельников Св[ято]-Успенского Жировицкого монастыря чувства глубокой признательности и сердечной благодарности за заботу Вашего Святейшества о нашей св[ятой] обители, за материальную помощь деньгами, материалами и рабочей силой для ремонта монастырских храмов, жилых корпусов и других зданий. Только благодаря содействию и помощи Вашего Святейшества через Хозяйственное Управление Московской Патриархии старый деревянный барачного типа бывший учебный корпус семинарии переоборудован в приличное и удобное жилое помещение для размещения в нём братии мужского монастыря, переселённых из отошедшего под больницу б[ывшего] главного монастырского корпуса. Во вновь отремонтированном корпусе проведено центральное водяное отопление, проведён водопровод и устроена канализация, что значительно облегчает быт и тем самым созданы весьма важные для престарелых иноков удобства.
Так закончилась история с отнятием монастырских зданий в пользу местного сельсовета и вынужденным переселением братии монастыря. В этой «операции» со стороны государства были задействованы значительные силы: Жировицкий сельсовет, Слонимский райисполком, Гродненский облисполком, областной уполномоченный, уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по БССР Г. В. Ковалёв, а также московское руководство Совета в лице председателя В. А. Куроедова и фактического исполнителя Г. С. Казызаева. Со стороны Совета по делам Русской Православной Церкви это были продуманные системные действия с использованием лжи, провокаций и приёмов психологического, финансового и иного давления. Все они были направлены на сокращение числа монастырей и монашествующих, а также на снижение их религиозного воздействия на верующее население.
Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что деятельность архимандрита Михея (Хархарова) внесла значительный вклад в сохранение от закрытия Свято-Успенского Жировицкого монастыря и отстаивание его имущества, в частности, зданий и земель. В непростое время для Русской Церкви и для монастыря, в частности, наместнику также удаётся сохранить раздельным проживание мужской и женских монашеских общин, не нарушая уставы иноческого жития.
При формальной поддержке правящего архиерея основной тактикой наместника была позиция удержания и дипломатических переговоров. Понимая ограниченность своих возможностей, архимандрит Михей выстраивал линию защиты в надежде на помощь Патриарха, который единственный мог хоть как-то повлиять на изменение принимаемых решений государственной системы. Он лично общался с В. А. Куроедовым и привлекал к решению вопросов сотрудников Московской Патриархии, посылая их в Жировицы. В результате непростых переговоров и мероприятий, монастырь вынужден был уступить три здания и значительную часть земли. Однако к этому времени хрущёвская антирелигиозная кампания клонилась к упадку. Менее чем через месяц Н. С. Хрущёв был отправлен в отставку, и наступление на Церковь по всей стране стало угасать. Правительство не успело предпринять усилий, направленных на дальнейшую ликвидацию Жировицкого монастыря. Сопротивление архимандрита Михея позволило обители выстоять в самые сложные годы, благодаря решительности и непреклонности наместника удалось главное — сохранить последний на Белой Руси монастырь, а вместе с ним — три монашеские общины. К великой святыне не только Православного, но и католического мира — Жировицкой иконе Божией Матери — продолжало стекаться огромное количество верующих людей. И в этом заслуга истинного духовного воина и верного послушника Святейшего Патриарха Алексия (Симанского) — архимандрита Михея (Хархарова), которого поддерживали мудрая настоятельница Гродненского монастыря игумения Гавриила (Рисицкая) и эконом Жировицкой обители иеродиакон Евфимий (Байдаков). Тем не менее для самого архимандрита Михея этот демарш против воли государства имел чрезвычайно тяжёлые последствия, которые привели его к освобождению от должности и лишению возможности в полной мере реализовывать свои пастырские и административные качества на высоких церковных постах в течение многих лет. Но как бы ни были страшны перспективы расправы советской власти с несговорчивым церковным деятелем, будущий ярославский святитель оставался верным своим принципам и всегда искал в первую очередь церковной пользы и славы Божией. Потому Господь и возвёл его на архиерейскую кафедру, когда преклонились годы его и, казалось бы, уже никто этого не ожидал.
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор (Казанов)
Библиография
1. Акт от 11 мая 1964 г. о захвате монастырской земли // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
2. Акт передачи от 15 июля 1964 года. Передавались двухэтажный братский корпус, бывший преподавательского корпус и жилые помещения при колокольне // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
3. Акт финансовой проверки от 24 июня 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
4. Указы, распоряжения, епархиальные отчеты. личное дело иеромонаха Михея (Хархарова), документы Свято-Успенского Жировицкого монастыря, указы и распоряжения, епархиальные отчеты // АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 54; Там же. Д. 59; Там же. Д. 123; Там же. Д. 112; Там же. Д. 142; Оп. 2. Д. 968.
5. Андрей (Василюк), иером. История Минской духовной семинарии периода первого возрождения в послевоенные годы. (1947–1964 гг.) в документах архива МинДС // XPONOΣ: Церковно-ист. альм. 2015. № 2. С. 97–134.
6. Антоний (Мельников), архим. Монастырский дневник // Кривонос Ф., свящ. Белорусская Православная Церковь в XX столетии: спецкурс лекций для Минской духовной семинарии. Минск: Врата, 2008. 255 С.
7. Гавриила (Глухова), игум. Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь // М., 2007. 150 С.
8. Гавриила (Глухова), игум. Всерадостное заступление Белой Руси. История Жировицкого Успенского монастыря по письменным источникам, преданиям и свидетельствам современников // Жировичи: Жировицкий Успенский ставропигиальный мужской монастырь, 2019. 119 С.
9. Гавриила (Глухова), игум. Мои воспоминания. Рукопись. 28 С.
10. Головкова Л. А., Менькова И. Г. Подвиг длиною в жизнь: Жизнь и труды Елены (Коноваловой) и Гавриилы (Рисицкой) – игумений Гродненского Свято-Рождество-Богородичного монастыря. М.: ПСТГУ, 2021. 333 С.
11. Дневник богослужений. 1969 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
12. Екатерина (Гаева), игум. Ратный путь владыки Михея. URL: https://monasterium.ru/publikatsii/stati/ratnyy-put-vladyki-mikheya/?ysclid=lqp4yxrtxt233809583 (дата обращения 01.12.2023)
13. Зегжда С. А. Жизнь архиепископа Михея // Альфа и Омега. 2006. № 47. С. 245–262.
14. Иоанн (Вендланд), митр. Князь Федор (Черный). Митрополит Гурий (Егоров): Исторические очерки. Ярославль: ДИА-пресс, 1999. 180 С.
15. Личное дело иеромонаха Михея (Хархарова) // Архив Московской духовной академии (Архив МДА).
16. Марченко А. Н. Состояние епископата Русской православной церкви накануне «Хрущевской» антирелигиозной кампании 1958-1964 годов // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 6 (361). История. Вып. 63. С. 112 – 116.
17. Марченко А. Н. Сопротивление епископата Русской православной церкви «Хрущевским» гонениям 1958–1964 годов по материалам Совета по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 6 (361). История. Вып. 63. С. 117 – 123.
18. Меженная Э. Л. Добрый монах. О жизни архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова). Ярославль: Академия 76, 2022. 408 С.
19. Отчеты уполномоченного по Гродненской области в Совет по делам Русской Православной Церкви // Гос. архив Гродненской области. Ф. 478. Оп. 1. Д. 20а.
20. Отчет республиканского уполномоченного Г. В. Ковалева // Нац. архив Республики Беларусь. Ф. 951. Оп. 1. Д. 1.
21. Отчеты республиканского и областных уполномоченных в Совет по делам Русской Православной Церкви // Нац. архив Республики Беларусь. Ф. 951. Оп. 3. Д. 29. Д 49. Д 63.
22. Отчеты республиканского и областных уполномоченных в Совет по делам Русской Православной Церкви // Нац. архив Республики Беларусь. Ф. 951. Оп. 4. Д. 32.
23. Павлов Д. В. «“До смерти я буду призывать вас к молитве”. Жизнь и служение митрополита Гурия (Егорова)». М.: ПСТГУ, 2021. 1248 С.
24. Письма Патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных комиссаров – Совете Министров СССР (1945–1970 гг.): в 2-х т. Т. 2: 1954–1970 гг. М: РОССПЭН, 2009. 671 С.
25. Послужной список архимандрита Михея // Ярославские епархиальные ведомости. 1994. № 1. С. 3.
26. Письмо Исполнительного комитета Слонимского районного Совета депутатов трудящихся в Хозяйственное управление при Патриархе Московском и всея Руси № 898 от 15 июля 1964 года // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
27. Письмо наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию № 35 от 22 сентября 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
28. Письмо наместнику Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандриту Михею (Хархарову) от 25 мая 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
29. Письмо наместника Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Д. А. Остапову от 16 июля 1964 г. относительно монастырской колокольни // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
30. Прошение наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию № 20 от 13 июня 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
31. Прошение наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию № 21 от 13 июня 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
32. Прошение наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию № 22 от 13 июня 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
33. Прошение наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию № 23 от 13 июня 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
34. Прошение наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) в Хозяйственно управление Московской Патриархии № 25 от 13 июня 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
35. Прошение наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию № 27 от 13 июня 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
36. Рапорт наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию от 15 апреля 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
37. Распоряжение исполкома Слонимского районного Совета депутатов трудящихся № 215 от 24 июня 1964 г. по устранению нарушений санитарных норм // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
38. Рапорты наместника Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Высокопреосвященнейшему Сергию, архиепископу Минскому и Белорусскому № 33 и № 34 от 17 июля 1964 г. // Архив Жировицкого Свято-Успенского монастыря.
39. «Свет ваш пред человеки»: дневники и воспоминания митрополита Иоанна и монахини Евфросинии (Вендланд). 1912–1987 / сост. Э. Л. Меженная. Ярославль: Академия 76, 2019. 224 С.
40. Спиридонова Т. А. Деятельность Совета по делам русской православной церкви при СМ БССР по идейно-политическому и финансовому контролю над церковной жизнью (из отчетов уполномоченных 1954–1958 гг.) // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. 2021. № 1. С. 172–177.
41. «Человек, каких все меньше и меньше». Избранные письма архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова) Г. А. Пыльневой // Православие и современность: Саратовские епархиальные ведомости. 2010. № 17 (33). С. 100–108; 2011. № 18 (34). С. 106–115.
42. Шкаровский М. В. Михей (Хархаров Александр Александрович, 1921–2005). Архиепископ Ярославский и Ростовский // Православная энциклопедия. Т. 46. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2017. С. 105–107.
43. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве // М., 1999.
Примечания
[1] См.: Архив МДА. Личное дело иеродиакона Михея (Хархарова). Л. 3.
[2] Устные свидетельства архиепископа Михея (Хархарова). 2001 г.
[3] Гавриила (Глухова), игум. Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь. С. 119.
[4] АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 5 — 5 об.
[5] Гавриила (Глухова), игум. Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь. С. 119.
[6] Архив МинДС. Ф. 1. Оп. 3. Д. 161. Л. 10.
[7] АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 28 — 28 об.
[8] Там же. Л. 31.
[9] Там же. Л. 29.
[10] См.: Там же. Л. 29 об.
[11] См.: ГА ГрО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 20а. Л. 17.
[12] См.: Рапорт наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию. 15 апреля 1964 г. Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[13] См.: АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 36-37.
[14] См.: Акт от 11 мая 1964 г. Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[15] АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 39-40.
[16] ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 530. Л. 24-24 об. Опубликовано: Письма Патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных комиссаров — Совете Министров СССР (1945-1970 гг.): в 2-х т. Т. 2: 1954-1970 гг. М., 2009. С. 441-443.
[17] ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 530. Л. 45-47. Опубликовано: Письма Патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных комиссаров — Совете Министров СССР (1945-1970 гг.). С. 443-444.
[18] Там же. С. 444.
[19] См.: ЖМП. 1964. № 7. С. 29-30.
[20] Письмо наместнику Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандриту Михею (Хархарову) от 25 мая 1964 г. // Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[21] АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 47-48. Опубликовано: Письма Патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных комиссаров — Совете Министров СССР (1945-1970 гг.). С. 453-454.
[22] Пимен (Извеков Сергей Михайлович, 1910-1990), Патриарх Московский и всея Руси. В 1925 г. поступил в Сретенский монастырь г. Москвы, пострижен в рясофор. В 1927 г. пострижен в монашество. В 1930 г. рукоположен во иеродиакона, в 1931 г. — во иеромонаха. В 1950 г. возведён в сан архимандрита, с 1954 г. — наместник Троице-Сергиевой лавры. В 1957 г. хиротонисан во епископа Балтского, в том же году — епископ Дмитровский. С 1960 г. — Управляющий делами Московской Патриархии. С 1963 г. — митрополит Крутицкий и Коломенский. В 1971 г. на Поместном Соборе избран Патриархом Московским и всея Руси.
[23] Письма Патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных комиссаров — Совете Министров СССР (1945-1970 гг.). С. 454.
[24] Там же.
[25] См.: АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 57-59.
[26] Там же. Л. 60.
[27] См.: Там же. Л. 54.
[28] Там же. Л. 69. Опубликовано: Письма Патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных комиссаров — Совете Министров СССР (19451970 гг.). С. 449-451.
[29] АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 69-70.
[30] См.: Акт передачи от 15 июля 1964 года. Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[31] См.: АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 76.
[32] См.: Акт проверки от 24 июня 1964 г. // Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[33] Распоряжение исполкома Слонимского районного Совета депутатов трудящихся № 215 от 24 июня 1964 г. //Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[34] См.: Письмо Исполнительного комитета Слонимского районного Совета депутатов трудящихся в Хозяйственное управление при Патриархе Московском и всея Руси № 898 от 15 июля 1964 года // Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[35] Акт передачи от 15 июля 1964 года // Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[36] Письмо наместника Жировицкого монастыря архимандрита Михея (Хархарова) Д. А. Остапову от 16 июля 1964 г. // Архив Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
[37] АМЕУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 88.
Источник: «Церковный историк»


