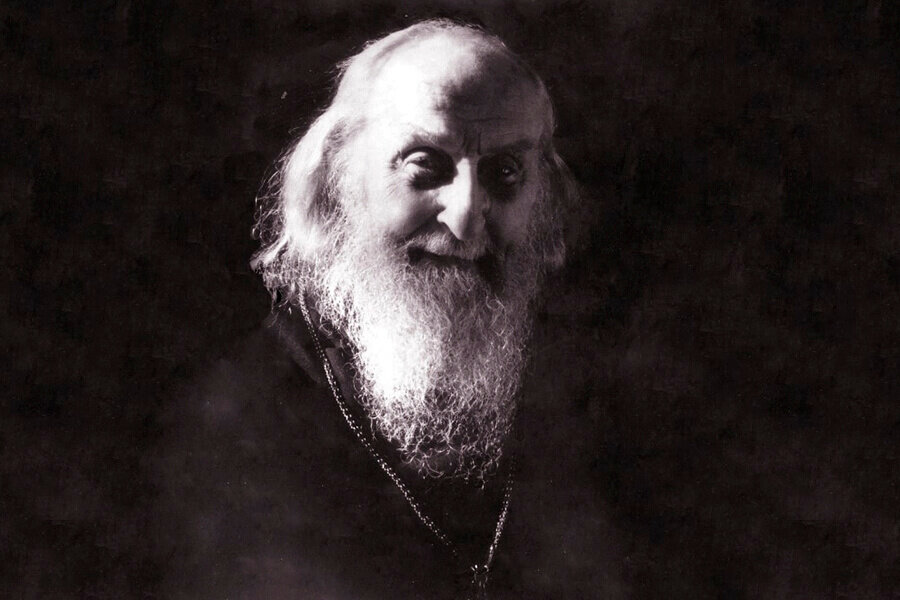
Мы сейчас читаем 45-ю страницу книги «Старец Силуан». Ранее (Беседа 7-я) мы говорили на тему гордости, смирения, говорили о духовном пути внутри Церкви, а сейчас прочитаем следующий параграф.
Беседа 8-я митрополита Лимасольского Афанасия на книгу «Старец Силуан»
Старец Софроний пишет следующее: «Многие, соприкасаясь с монахами вообще и со старцем Силуаном в частности, не видят в них ничего особенного, и потому остаются неудовлетворенными и даже разочарованными. Происходит это потому, что подходят они к монаху с неверною меркою, с неправильными требованиями и исканиями» (книга «Старец Силуан», глава 2-я). Здесь отец Софроний говорит о том, что есть многие люди, которые, приближаясь к духовному человеку, к монаху, к священнику, не видят в нем ничего достойного и остаются неудовлетворенными. И так происходит, поскольку они подходят к нему с неверными критериями.
На Святой Горе и в целом во всем православном мире человек встречает много сюрпризов, поскольку видит людей (как среди монашествующих, так и вне монашества), внешнее проявление и внешний облик которых не свидетельствует ни о чем достойном внимания. Однако если ты познакомишься с ними поближе, поговоришь с ними, духовно соприкоснешься, тогда понимаешь, что внутри этих людей сокрыто удивительное сокровище. И это сокровище есть не что иное, как опыт Церкви, опыт жизни в Духе Святом, который передается из поколения в поколение. Апостол Павел говорит, что «сокровище сие мы носим в глиняных сосудах» (2 Кор. 4: 7), то есть драгоценное сокровище познания Бога мы носим в глиняных сосудах человеческих, в нашей нищете, нашем несовершенстве. Здесь я хотел бы сказать об очень тонких вещах, где требуется быть внимательными, чтобы понять их правильно.
Все мы замечали, как многие люди вступают в духовную жизнь с энтузиазмом, встречая духовного человека, священника, монаха, например. Он производит на них огромное впечатление в первый раз, во второй раз, в третий. Они стараются приблизиться к нему, быть ближе, советоваться, применять эти советы в своей жизни. Но на каком-то этапе становится заметно, что эти люди начинают испытывать затруднения, тяготиться. Тогда в них можно отметить две вещи. Первое – это то, что они начинают отдаляться от того духовного человека, которого они встретили, и одновременно начинает угасать их духовная жизнь. Обычно сами они причиной полагают духовника – поскольку у него нет времени или желания заниматься ими, либо то, что они ожидали увидеть в нем одно, а встретили совсем иное: иного желают, иные нужды у них и так далее. Все мы это замечали – и я в своей личной жизни, и в целом в жизни церковных людей. И все мы задаемся вопросом: насколько в действительности дела обстоят таким образом? Какова причина того, что существует такое охлаждение, отчего наступает духовный упадок?
Связь духовного отца и христианина, который приходит на таинство Исповеди, принося (что естественно) груз своих проблем, своих грехов, рассказывая о течении своей духовной жизни – это связь священная, связь очень серьезная, и такая связь должна быть, по существу, очень здоровой связью. Если в нее проникает нечто человеческое, нечто нездоровое, то и последствия бывают плачевные, а порой происходят и весьма неприятные вещи в отношениях людей. Или от того, что люди слабы, или духовник оказывается слабым, или по иным разным причинам. Происходит нечто парадоксальное. Те люди, которые в самом начале пришли с огромным энтузиазмом (оказавшись рядом с духовным человеком, они полагали, что нашли своего спасителя, скажем так, отзывались о нем с огромной любовью и восторгом), через некоторое время увидели, что все обстоит не так и их любовь и энтузиазм стали превращаться в злость и даже ненависть.
Мы видели людей, которые с огромной силой возненавидели своих духовных отцов. Возненавидели не за то, что они сделали им нечто плохое, но от того, что внутри этих людей началась странная психологическая работа. То, о чем говорит отец Софроний: когда мы приближаемся к какому-то монаху, к духовному человеку, к священнику, к нашему духовнику с неправильным расположением и неверными ожиданиями. Наш духовник, как бы то ни было, – это духовный человек, священник, монах или женатый священник, это лицо, на которое возложено обязательство по заповеди Христовой, по священническому призванию, воспринятому в хиротонии, принимать бремя народа Божия – скольких ни пошлет ему Господь. Но любой священник не перестает быть конкретным человеком, определенной личностью, обладая ограниченными силами и ограниченными возможностями. И, естественно, порой у него будут и предпочтения в людях. Нет ничего странного в том, что здесь встает вопрос предпочтения, ведь духовник ведет себя подобно врачу.
Допустим, врач должен перевязать руку человеку, который порезался ножом, но вдруг на скорой помощи привозят другого пациента, искалеченного, который попал в аварию. Конечно, врач побежит к второму, поскольку тот, который порезал палец, и сам вскоре поправится, а второй при смерти, за ним нужно наблюдать продолжительное время. То же самое случается и с духовниками. Они оценивают обстоятельства и выстраивают приоритеты. Это естественно. Они – люди, в сутках – двадцать четыре часа, часы – не бесконечны, у духовников есть и личные потребности и нужды. Не только нужды – поесть и отдохнуть, но и духовные потребности. Ведь горе тому духовнику, который станет нерадеть о своей духовной жизни, погружаясь в круговорот людей, которые его окружают. Когда ему следить за своим духовным преуспеванием, заботиться о молитве, о духовном состоянии? И наблюдается такой феномен: люди соблазняются, начинают осуждать своего духовника, ищут других духовников, у которых больше времени, происходят разные иные подобные вещи.
А в конечном итоге все это свидетельствует лишь о том, что внутри нас что-то идет не так. Если мы умеем правильно исповедоваться, то наша исповедь вмещается в пять предложений, а духовник может даже не говорить ни слова или произнести всего лишь пару фраз. Когда же мы не умеем правильно исповедоваться, то начинаем мучать духовника, заставлять его терять драгоценное время, которое он мог бы посвятить другим людям.

Еще важно быть очень внимательными к тому, чтобы наши встречи с духовником проходили на уровне молитвы, чтобы они не опускались на уровень простого разговора, когда мы беседуем о своих проблемах на работе, о семье, о детях, о невестке, о зяте, о теще, будто мы болтаем с соседками. Если у нас есть проблема с каким-то человеком, то нужно сказать: «У меня сложности в отношениях с тещей, я раздражаюсь, когда вижу ее», и остановиться – этого достаточно. Не нужно говорить: «Она приходит, звонит в звонок, садится в кресло, встает…» – и начинать разговор не по делу, и тогда только милость Божия может нас освободить от такого бремени. Это страшное дело. Когда я был молодым, слышал, как разные духовники говорили, насколько трудно исповедовать людей, что нужна огромная сила, даже прочел где-то, что нужны стальные нервы. Думаю: «Для чего же стальные нервы? Что они делают целыми днями? Сидят на стульчике, слушают истории народа, разговаривают – при чем здесь усталость и стальные нервы?» А когда пришел мой черед сидеть на этом стульчике, то я увидел, что не только стальные нервы, но даже не знаю какие они должны быть, чтобы человек понес это бремя – и бремя греха каждого, и бремя неразумия, и бремя многословия, к сожалению.
Многие из вас исповедуются у меня или у других духовников. В этом параграфе мы читаем об ошибочном способе приближения к духовному человеку. Потому что мы должны понимать, что мы приходим к духовнику не как к хорошему человеку, чтобы стать добрыми друзьями, поскольку у нашего духовника нет времени на дружбу. Да он и не должен заводить друзей. Духовник – это одушевленный образ Божий (икона), к нему мы приходим, чтобы рассказать о своей проблеме, о своих помыслах, чтобы воспринять от него извещение Божие. Вот это должно нас занимать. И мы не должны требовать ничего большего, поскольку у него не будет возможности дать это нам. Возможно, в начале духовник может уделить больше времени, посетить людей, посидеть с ними лишний час. А когда количество духовных чад увеличивается, как он может это себе позволить? Это невозможно. А если мы требуем его времени и таких отношений, особенного внимания, то, когда он не сможет нам этого дать, мы начнем грустить, и духовник расстроится, поскольку он понимает: раз мы не созрели духовно, то сатана воспользуется такой нашей слабостью. И хотя было достаточно одного слова, чтобы спасти этого человека, он начинает искать большего, и происходят разные печальные истории. Понимаю, что мы живем в такую эпоху, когда практически все имеют психологические проблемы и испытывают много лишений.
Дети лишены любви родителей, супруге не хватает любви со стороны супруга, не достает любви и супругу со стороны супруги, малыш лишен заступления взрослых, пожилым не хватает понимания со стороны молодых. Все мы чего-то недополучаем. Сложно найти человека цельного. Однако давайте научимся возлагать упование на Бога, надеяться на Него, будем ожидать помощи от Бога, что Он подаст нам необходимое. Не будем ожидать этого от человека. Другой человек не может нас наполнить.
Знаете, падение Иуды произошло не от того, что он был плохим (хотя, конечно, он был изначально нехорошим человеком), но существует мнение святых отцов, что он предал Христа, поскольку разочаровался в Нем. Он ожидал иного – что Христос поднимет революцию против римлян, станет царем Израиля и сделает апостолов министрами, скажем так. Когда он увидел, что у Христа не было таких помышлений, но что Он по доброй воле пошел и предал Себя на смерть, тогда Иуда растерялся, стал рассуждать: «Что это такое происходит? Мы хотели утвердить царство Израильское, а Он оставил нас. Оставим и мы Его». Это было следствием неверного приближения ко Христу. И знаете, от неверного сближения происходит много зла. В целом, когда мы приближаемся к Церкви, к Богу и ожидаем от Бога тех вещей, которые Бог не даст нам, поскольку они нам не на пользу, тогда мы разочаровываемся.
Когда мы ожидаем от Бога, что Он исполнит все, о чем мы Его просим, когда хотим, чтобы Он хранил нас всегда счастливыми, успешными и улыбающимися, ожидаем порой, чтобы мы никогда не болели (и умереть не должны!), чтобы все наши начинания протекали без запинки, наилучшим образом, поскольку мы Божии люди, мы любим Бога, – тогда мы неизбежно разочаруемся. Поскольку «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3: 12). «Если Меня гнали, будут гнать и вас», – сказал Христос (Ин. 15: 20). И еще: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16: 33). То есть Бог пообещал нам, что в мире мы будем иметь скорби и претерпевать гонения, Он не обещал нам того, что мы неверно ожидаем. То же самое случается, когда мы приближаемся к духовному человеку.
Помню, однажды пришел ко мне человек и сказал: «Я ухожу, больше не приду сюда на исповедь, потому что мне хочется иметь духовника-друга, чтобы мы могли поговорить, прогуляться вместе, чтобы он приходил в мой дом». Я ответил ему: «Хорошо ты говоришь, и действительно, если у человека есть время так общаться, это хорошо. Но думаю, что у тебя есть нужда в добрых друзьях, а не в духовнике, потому что такие вещи – пойти прогуляться по берегу моря, подняться на гору и устроить шашлыки – так делают хорошие друзья. Если духовник начнет так поступать (а к сожалению, мы, духовники, допускаем такую ошибку, полагая, что, устраивая экскурсии, симпозиумы, обеды для людей, которые исповедуются у нас, делаем им добро), тогда начинает происходит настоящий кошмар».
Помню, один батюшка приезжал на Святую Гору и говорил нашему старцу: «У меня будет мало духовных детей, не буду брать на исповедь много людей, чтобы я мог с ними справиться, чтобы часто собираться вместе, чтобы мы вместе обедали, знакомились друг с другом, чтобы среди нас было доброе общение». Мы слушали его и говорили: «Дай Бог, чтобы это общение было ангельским». А старец говорил: «Будь внимателен. Если среди них есть женщины, то очень быстро такое начинание разрушится». Каков был результат? После двух-трех встреч, когда одна узнала про секреты другой, все это начало распространяться, начались недопонимания, началась ругань, началась подозрительность – что духовник уделяет больше внимания одному, другому, один стал рассказывать другому, что ему сказал духовник на исповеди, и случилось одно недоразумение, после которого духовника чуть ли не лишили сана. Такая путаница началась, что и сатана не смог бы в ней разобраться. А все почему? Потому что мы нездоровы.
И ошибочно приближаемся к Церкви, к духовным отцам, а наши духовные отцы по неопытности полагают, что должны отвечать на все наши желания, на все нужды, хотя они не обязаны на все это отвечать. Горе нам! Если у меня исповедаются три тысячи человек и я начну думать, что я должен звонить всем этим людям каждые две недели, чтобы спрашивать, как у них дела, поздравлять их с именинами, тогда мне нужен каталог в компьютере, и я буду сидеть целыми днями, звонить всем, спрашивать: «Как вы поживаете?» Понимаете, что так не получится? Мы должны научиться правильно общаться с духовниками, с верным расположением, ожидая от них выражения воли Божией о нас, оставляя духовника действовать свободно. Если он сочтет, что нам нужно уделить время, он сделает это, посвятит нам дни, годы, но, если он сочтет, что достаточно одного слова – значит, достаточно, чтобы мы правильно двигались. Из моего небольшого опыта, я видел, что те люди, которые верно подходили к духовникам, получая немного внимания, немного времени, преуспевали. А иные, кто много времени был рядом, почти никакого развития не имели (или имели развитие минимальное). Дело не во времени, а в образе общения. Способ имеет огромное значение.
В Патерике повествуется о том, как к преподобному Антонию каждый год приходили четверо отшельников. И каждый из них спрашивал о чем-то либо из Священного Писания, либо из своего опыта духовной жизни, а святой Антоний отвечал им. Отцы уходили, возвращались через год, чтобы спросить о чем-то еще. Среди четверых один не спрашивал преподобного Антония ни о чем. Никогда. Много лет приходил, молчал и уходил. Антоний Великий ждал, задумывался: «Что происходит? Почему он так поступает?» Прошло много лет, и преподобный спросил его: «Отче, столько лет ты приходишь сюда, и ни разу ты не спросил меня ни о чем. Почему ты не спрашиваешь ничего?» А он был добродетельным монахом. Он ответил: «Мне довольно видеть тебя, отче». То есть мне достаточно только посмотреть на тебя. Для этого монаха было достаточно созерцать этого духовного человека, чтобы измениться, укрепить свою жизнь, без множества слов.
Еще мы должны понять, что духовный человек, будучи человеком, имеет ограниченные знания, потому для него будет ошибкой отвечать на любой вопрос, не касающийся духовной жизни. И отцы Церкви, и Священное Писание могли сказать не совсем верно о том, что не относится к духовной жизни. Приведу пример. Если мы прочтем труды Василия Великого, его беседы на Шестоднев, то увидим, что он написал объяснения, опираясь на научные представления своей эпохи, которые на 99 процентов из 100 ошибочны, по крайней мере по сегодняшним представлениям. Но это ничего не значит. Это не значит, что Василий Великий не свят, поскольку он сказал неверно относительно Шестоднева. Или в Писании говорится, что Солнце движется, а не Земля, но это не значит, что все Писание неверно.
Священное Писание, святые отцы, наши духовники – не астронавты, не космологи, не математики, не физики, не химики – ничего подобного. Когда они говорят о подобных вещах, есть очень большая вероятность, что они допустят ошибку. Когда же они говорят о духовной жизни, об опыте жизни во Христе внутри своего сердца, тогда они говорят безошибочно, выражают безошибочно опыт обожения, говорят о догматах, о духовном учении. А на остальные темы они будут говорит с ошибками с высокой вероятностью. Поэтому не станем их спрашивать об этом.
Однажды кто-то спросил у меня, какую марку машины ему купить. А я где-то слышал, что такая-то марка хорошая, ответил ему, поскольку он очень настаивал: «Иди купи машину такой-то марки». Он пошел, купил, а потом стал меня проклинать. И в конечном итоге продал ее с большими сложностями (такие нелегко продаются). Что мне делать? Разве я знаю все про машины? Разве это мое дело, говорить каждому, какую ему марку машины покупать? Если бы он спросил, как ему по четкам молиться на правиле, я бы ответил. Как часто ему причащаться – сказал бы ему. Если бы спросил, как победить страсти, – ответил бы. Но про машину я не знаю, какую лучше купить. Это неверный подход. Сказать: «Отче, помолись, чтобы Бог просветил меня сделать эту работу» – это добро и благословенно. А когда мы начинаем спрашивать о чем-то не из духовной жизни, это неверная отправная точка, которая приведет к неверному разрешению. То, о чем я сказал относительно прочитанного в данном параграфе, – хорошо, полезно и имеет практическое значение для всех нас. Перейдем к следующему параграфу.
«Монах пребывает в непрестанном подвиге, и нередко чрезвычайно напряженном, но православный монах – не факир. Его совершенно не увлекает достижение посредством специальных упражнений своеобразного развития психических сил, что так импонирует многим невежественным искателям мистической жизни» (книга «Старец Силуан», глава 2-я). Эти слова очень важные, очень серьезные. Они передают образ духовного человека. Старец Софроний говорит здесь о монахе, поскольку эта книга написана монахом о другом монахе, о преподобном Силуане. Однако каждый православный христианин – подвижник, каждый православный христианин – монах в том смысле, что он несет на себе тот же подвиг и имеет ту же цель, что и каждый монах. Итак, этот подвиг – серьезный, непрестанный и напряженный. Как бы то ни было, человек, вступающий на этот путь, не бывает совершенным, он находится на пути становления.
С момента зачатия в утробе матери, с первого мгновения, с первой секунды зарождения жизни – это уже человек, совершенный человек, но только с течением времени он подрастает, набирается знаний, набирается сил до тех пор, пока не станет совершенным по возрасту. День за днем он возрастает духовно, умственно и телесно. Так происходит и в духовной жизни со всеми духовными людьми. Каждый человек, вступающий на путь духовной жизни, не становится совершенным в первое же мгновение. Поначалу он бывает духовным младенцем, и необходимо много терпения, много внимания, много дерзновения, умения терпеливо ждать, чтобы постепенно продолжать эту борьбу. И в этот период человек будет подвизаться по своим силам, как говорит апостол Павел: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1 Кор. 13: 11).
То же самое происходит и с нами. Когда в духовных людях вы будете встречать поступки духовно несовершенные, не беспокойтесь и не поднимайте шум – ничего страшного не происходит. Такова человеческая природа, несовершенное человеческое естество, это свойственно всем нам без исключения. Если совершенный для нас несовершенен пред Богом, то представьте, каков несовершенный! И в вашей собственной жизни – когда вы видите, что несмотря на то, что вы духовно подвизаетесь, припадаете к таинствам, исповедуетесь, молитесь, трудитесь, а внутри вас действуют страсти, нечистые, низкие страсти, которые недостойны человеческой личности, – пусть это вас не пугает. Такова природа вещей. Мы идем таким путем, иначе не получится. Младенец не может быть зрелым человеком, так и мы в духовной жизни.
Кто-то спросил меня на исповеди: «Отче, я правильно исповедуюсь? Хочу, чтобы ты мне сказал, как правильно исповедоваться, поскольку думаю, что я плохо исповедуюсь». Думаю, что же сказать этому человеку? Существуют разные ступени исповеди. Мытарь исповедался – и тут же получил прощение. Исповедуемся и мы, но с огромным понуждением.
Допустим, есть один текст. Его берется прочесть ребенок, первоклассник, читает его по слогам. Однако для его уровня знаний, для его возраста это хорошо, учитель ставит ему отлично, хотя он прочел с запинками, сделал ошибки в сорока словах из пятидесяти. Ученик третьего класса ошибся только в половине слов, остальное прочел верно. Получил и он отлично. Но если старшеклассник прочтет весь отрывок от начала до конца и сделает одну ошибку, то отлично он не получит. Хотя первый сделал 40 ошибок, он получил отлично, поскольку это соответствовало его силам. По способностям было и воздаяние. Так и в духовной жизни. Аналогично тому, в каком мы состоянии, какие силы прикладываем, с каким расположением и усердием подходим, какова наша воля, желание, соответственно с этим мы и поступаем.
Помню, однажды ко мне подошел один человек и сказал: «Знаешь, тот господин, который у тебя исповедуется, принадлежит одному движению, оно нехорошее (к примеру, масоны). Ты должен сказать ему, чтобы он ушел от них». Я ответил: «Если бы он сказал мне: «Отче, я масон», тогда я бы ответил ему: «Ты должен уйти от них»». Не могут сочетаться и принадлежность к масонству, и пребывание в Православной Церкви Христовой, об этом говорил и Священный Синод полгода назад. Но этот человек сам не говорил мне об этом, это говоришь мне ты. Если он не сказал мне об этом, а я сам начну копаться, испытывать его – ничего не выйдет, поскольку у него пока нет сил отречься от этого. Я подожду, пока он укрепится. Придет время, когда можно будет поставить перед ним такой выбор, и он сумеет сказать нет.
Или приходят ко мне родители и просят: «Скажи моей дочери, чтобы она не ходила гулять со своими подругами», или чтобы она не ходила гулять после одиннадцати. Требуют от духовника, чтобы он установил такие запреты на исповеди. Приходит ребенок. Я вижу, что если скажу ему подобное, то он пойдет к своим друзьям, а нас оставит. Поэтому я выслушаю, что говорит мама, но посмотрю и что может понести человек, который стоит передо мной. Если он спросит: «Плохо, если я выхожу погулять после одиннадцати?» Я не скажу ему, что плохо, когда ты гуляешь после одиннадцати, а скажу: «Если ты после шести гуляешь и делаешь плохие дела – это плохо. И если после одиннадцати что-то нехорошее совершаешь – снова это плохо». Он воспримет такие слова более благодушно. А потом наступит момент, когда он духовно окрепнет, тогда уже не будет нужды говорить ему об этом, он сам поступит как должно. В этом тайна духовного взросления, духовного возрастания, переходного состояния на пути бесконечной борьбы, о которой говорит старец Софроний.
Мы должны очень хорошо понять, что движемся постепенно, неспеша. И не будем требовать и ожидать от самих себя того, что не может произойти. «Почему мой ум не собирается на молитву?» Деточка, но такие вещи были занятием Антония Великого, а ты сейчас хочешь это получить? Сколько преподобный Антоний потрудился ради этого, а ты с первой недели уже ждешь, что ум твой будет только в молитве? Это непростые вещи. Это все равно что младенец захочет понимать вещи, которые изучают в университете. Так не бывает. Прояви терпение. Ты спрашиваешь: «Почему я не могу справиться с плотской страстью?» Потому что ты еще молод духовно. Твоих сил пока недостаточно для этого. Принимай духовною пищу, питайся духовно, чтобы укрепиться. Через молитву, через поучение в слове Божием, через исповедь, через Божественное Причастие. А когда укрепишься, тогда легко отвергнешь даже то, что сейчас тебе кажется горой. И то же самое, когда мы замечаем что-то в других. Потому человеку непозволительно терять дерзновения – ни в отношении себя, ни в отношении других. Давайте будем иметь дерзновение, иметь веру, иметь терпение, будем ждать, надеяться, не будем разочаровываться. Наша жизнь протекает в борьбе, и, как бы то ни было, мы поступаем по своим силам. Будем говорить: «Слава Богу! У нас все очень хорошо».
А далее он говорит: «Православный монах – не факир. Его совершенно не увлекает достижение посредством специальных упражнений своеобразного развития психических сил» (книга «Старец Силуан», глава 2-я). Сегодня это очень сильно распространено. Видите, мы все спешим – найти методы, найти способы, найти рецепты, чтобы обрести мир, чтобы успокоиться, расслабиться, чтобы развивать мозги. Мы приходим на исповедь и говорим: «Отче, скажи, что мне делать, чтобы мой муж вернулся обратно в Церковь?» Словно существует какой-то секретный рецепт. Если ты узнаешь и применишь его, то сразу же твой муж вернется в Церковь. Когда ты отвечаешь: «Что тут поделаешь? Потерпи и молись», – люди разочаровываются и уходят. Они ожидали получить волшебную таблетку – дашь такую выпить, и тут же муж станет человеком Церкви. Или они сами выпьют такое лекарство – и сразу станут людьми бодрствующими, людьми молитвы, бесстрастными, святыми – не знаю, что еще. Но таких вещей не существует.
В Церкви нет методов именно потому, что в Церкви присутствует Дух Святой, Который действует свободно, Который входит и проникает до глубин человеческих, прочно устрояя духовную жизнь, полагая фундаментом непоколебимое основание – смирение и покаяние. Горе нам, если бы духовная жизнь устраивалась с помощью технических приемов, поскольку в таком случае духовная жизнь была бы человеческой конструкцией, которая бы нас утомила в определенный момент. И мы видим, что результатом для всех тех людей, которые стали применять определенные методы, стала усталость. Они устали и поняли, что в итоге с ними не произошло ничего из того, чего они ожидали. А в духовной жизни мы идем в противоположном направлении – мы ничего не ожидаем. Когда я чего-то жду, ничего не случается. А с того момента, когда я уже ничего не жду, происходит то, что должно произойти. Потому что мы созидаем дом души на основании смирения, устроитель – Дух Святой, а не наши собственные измышления. Это аксиома отцов Церкви: в час, когда на человека воздействует энергия Божественной благодати, он никогда не должен указывать Богу, что Он должен сделать. Но нам нужно замечать то, что мы делали в момент посещения благодатью, и продолжать делать это дело.
Один подвижник на Святой Горе рассказывал мне, как однажды он вырезал печати для просфор и в тот момент вошел в состояние созерцания нетварного света, оказался во Свете Божием. Он подумал тогда: «Если я сейчас прервусь, перестану вырезать просфоры и пойду в церквушку неподалеку, погружусь в молитву, тогда это состояние продлится». Только он прервал рукоделие, встал со своего места – тут же благодать оставила его. Потому что Бог не принимает того, когда мы с вами становимся Ему учителями. Но там, где ты есть, то, что ты делаешь, – продолжай это, не бойся. Бог неподвластен человеческим условностям, Он посещает человека везде, где бы мы ни находились. Достаточно, чтобы человек не совершал греха, не был рабом греха, но любил бы и желал Бога.
Внешние условия не оскверняют, Богу они не помеха. Потому не будем думать, что если мы создадим условия, подобные духовной теплице, войдем внутрь нее и тогда станем хорошими. Как говорил старец Паисий: «Тогда мы станем как помидоры из теплицы», которые вроде бы и помидоры, но безвкусные. Он так говорил о ребятах, о которых родители чрезмерно заботились с момента рождения, чтобы у них были особые учителя, специальные школы, специальные училища, особенные друзья – все специальное и особенное, чтобы они не соприкоснулись с действительностью окружающего мира. Родители полагают, что при таком подходе из детей выйдут добрые христиане.
А в конечном итоге что получается? Снимаем с ветки помидоры, негодные к еде. Даже если мы создадим всё особенное, наш внутренний мир останется тем же. Потому что страсти – внутри нас, грех – внутри нас, ветхий человек – внутри нас. Тогда мы поймем, что в конечном счете виноваты не наши соседи и соседки, не тот, кто живет на чердаке или в подвале, но мы сами. Если мы сами умиротворимся, тогда и вокруг нас все умиротворится, и сила зла перестанет действовать на нас, потому что мы перестанем видеть ее.
Здесь старец Софроний говорит об одном определении, о котором мне хотелось бы сказать в разъяснение несколько слов. Он говорит о «невежественных искателях мистической жизни». Я часто слышу (и стараюсь не рассмеяться в этот момент) от людей, которые приходят в Церковь, начинают читать святых отцов, «Добротолюбие», читать о трезвении, как они говорят, что приближаются к мистической жизни. Но это смешные вещи. В Церкви нет такого определения – мистическая жизнь. Мистицизм существует среди восточных народов, не знаю – у мусульман, где-то еще. Но у святых отцов не было этого определения – мистицизм. Существует таинственная жизнь во Христе. Она называется таинственной, поскольку она протекает в глубине сердца человека невидимо от очей мира. Таинственно Бог совершает наше спасение. А мистицизм – это симптом и феномен восточных религий, и это не имеет никакого отношения к богословию и учению отцов Церкви.

А далее отец Софроний говорит: «Монах ведет сильную, крепкую, упорную брань, некоторые из них, как отец Силуан, ведут титаническую борьбу, неведомую миру, за то, чтобы убить в себе гордого зверя, за то, чтобы стать человеком, подлинным человеком, по образу совершенного Человека Христа, то есть кротким и смиренным» (книга «Старец Силуан», глава 2-я).
Видите, каков предел нашего духовного пути? Стать по образу Христа кротким и смиренным сердцем. Мы имеем конкретную цель. Не просто стать хорошими людьми, и даже – не стать без Христа людьми, кроткими и смиренными сердцем. Нет. Нас занимают не симптомы и побочные эффекты. Нас занимает не кротость сама по себе, и даже не любовь, не терпение, не мир, не умягчение – ничего подобного. Нас занимает только одно, и даже, скорее, Один – Христос, наша встреча с Личностью Богочеловека Иисуса Христа. Если это произойдет, тогда придет и все остальное. А когда нас заботит все остальное и не заботит встреча со Христом, тогда все происходит по-человечески, и на определенном уровне нам может показаться, что мы достигли кротости, исихии, спокойствия, но Христос отсутствует в нашем сердце. А поскольку отсутствует Христос, тогда мы делаем не что иное, как употребляем лишь некое человеческое усилие. Сколь бы совершенным оно ни было, оно приговорено к смерти, ему нет места в Царствии Божием. Мы должны очень хорошо осознать эту вещь.
Очень многие из нас совершают такую ошибку, подходя к духовной жизни, приближаясь к Церкви не ради Христа, но совсем для иных вещей – чтобы у нас все было в порядке, ради мира, ради радости. Но это ошибка. Мы живем ради того, чтобы в нас изобразился Христос. Христос сказал: «Я есть Альфа и Омега, Я есть Начало и Конец» (Откр. 1: 8). «Аз есмь путь» (Ин. 14: 6), «Аз есмь воскресение и живот» (Ин. 11: 25), «Всяческая во всех Христос» (Кол. 3: 11). Без Христа ничего не существует. Неотъемлемый элемент духовной жизни Церкви – Христос, личность Христа, конкретная личность. Тот, Кто воплотился две тысячи лет назад в этом мире, учредил Церковь в конкретный исторический момент. Мы должны очень хорошо понять это. Без такого понимания духовная жизнь христианина не устоит. Когда мы поймем это, тогда мы поймем и причину твердости, верности Церкви во многих вещах, которые могут показаться нам второстепенными, о которых мы можем подумать, что это фанатизм, что в них нет такой необходимости. Какая разница, что я и здесь, и там? Какая разница, что я принадлежу и этой группе, и Церкви Христовой? Такой-то школе, учению и Церкви? Так не получится.
Если человек принадлежит Христу – это значит, что такой человек отдал всего себя от начала до конца Христу и живет во Христе. А во Христе полнота всего мира, полнота всей нашей личности. Если ты ищешь где-то еще, это означает, что Христос не может тебя наполнить, ты не постиг совершенства, сокрытого в твоем сближении со Христом. Доказательство тому – святые отцы, святые нашей Церкви, которые подвизались, чтобы приблизиться ко Христу, не принимали ни малейшего соприкосновения с чем-то безбожным. Они старались разорвать связь даже с самыми основными, естественными, бесстрастными потребностями, невинными самими по себе, – с едой, со сном, с отдыхом, старались уничтожить привязанность к питию, к родственникам – настолько всецело они ощущали потребность отдать всего себя Богу, чтобы наполниться Богом совершенно, всем своим существом.
Думаю, это самое главное, что важно понять человеку, желающему познать духовную жить. Понять, что он не может набираться опыта в разных местах, что невозможно взять от Христа 99 %, а 1 % оставить, – тогда ничего не выйдет, в результате будет ошибка. Как в математическом уравнении – если мы все правильно сосчитаем, а что-то учтем не в том месте, получится неправильный ответ. Нам необходимо правильно, точно и по порядку расставить все части уравнения, чтобы получить верный ответ. В Откровении Господь говорит тому, кто был теплохладен: «Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3: 15–16). Что это значит? Ты выбрал во Христе какой-то кусочек, другой кусочек еще откуда-то взял и идешь создавать что-то свое. От этого в твоем делании была теплохладность. Лучше бы ты был либо холоден, либо горяч. Но поскольку ты теплохладный, то извергну тебя. Бог не принял того, чтобы в сердце человека уживалось такое двоякое устроение, когда он по своему желанию избрал ошибочную теорию. И здесь речь идет не о грехах. Кто может сказать, что он непричастен греху?
Это разные вещи – когда человек совершает грех, но понимает, что он грешит, кается, молится, прося милости Божией, а иное – когда кто-то принимает разные теории – чуть-чуть отсюда, немного оттуда – чтобы создать свою теорию. Такой человек с самого начала обречен на неудачу. Он создаст ложный образ Христа, но это не будет иметь никакого отношения к действительности, к настоящей духовной жизни, которая имеет в качестве основания покаяние, любовь ко Христу всем своим существом.
Таков путь истинного монаха, истинного христианина. В сердце духовной жизни лежит восприятие благодати внутри себя, отречение от страстей, соблюдение себя и всего творения по образу и подобию Божию. На этом я остановлюсь, и посмотрим, есть ли у вас какие-то вопросы. Кажется, что нет.
Перевела с греческого Мария Орехова


