Мы находимся на 42-й странице книги «Старец Силуан». В прошлый раз мы говорили на тему извещения, которое преподобный Силуан получил от Христа во время молитвы, рожденной в боли и прошении узнать волю Божию, когда Господь сказал ему: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».
О СТРАСТИ ГОРДОСТИ
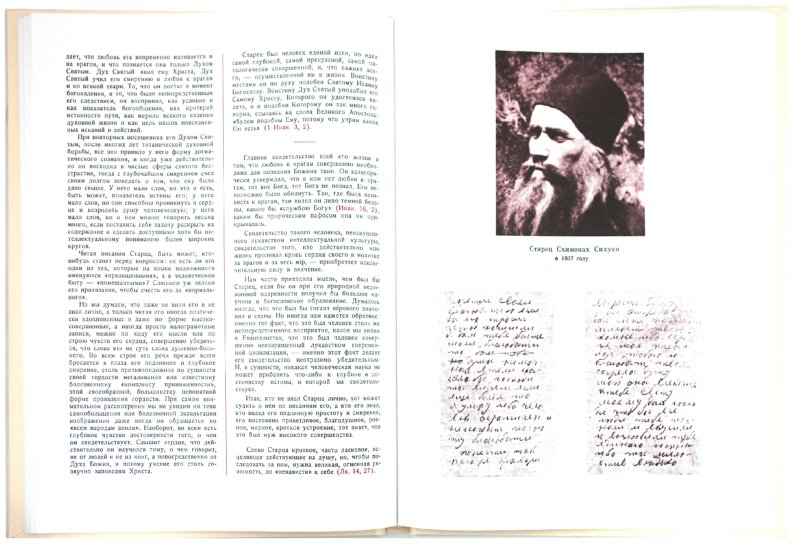
Продолжим, поскольку я хотел бы остановиться на одном моменте, о котором говорится на странице 43, чтобы с помощью Божией сегодня подробнее рассмотреть его. Во втором параграфе старец Софроний пишет следующее: «В чем сущность указания Божия отцу Силуану? В том, что отныне душе его открылось не отвлеченно-интеллектуально, а бытийно, что корень всех грехов, семя смерти есть гордость» (книга «Старец Силуан», часть 2-я). То есть сущность, как говорится здесь, указания Божия в конечном счете заключалась в том, что центр всех греховных состояний, всех тех путей, которыми мы препятствуем Богу действовать в нас, – это гордость. А поскольку это очень большая и широкая тема, и она должна занимать всех нас, потому что мы сейчас находимся в преддверии Великого поста, который является особенным периодом, благословенным нашей Церковью для духовной борьбы, то остановимся на ней подробнее. Если мы будем ходить в храм в течение поста, то услышим прекрасные тропари и молитвы к Богу о том, чтобы Он даровал нам смирение и избавил нас от духа гордости. Будет хорошо сегодня поговорить о гордости, посмотреть, если получится, что такое гордость, как распознать ее и как с ней бороться.
Я взял с собой книгу, написанную преподобным Иоанном Лествичником, в которой содержится очень важная глава «О безумной гордости» (слово 23). Мы должны сказать, что книга «Лествица» – один из глубочайших и важнейших трудов святых отцов, и каждому человеку, желающему подвизаться, необходимо читать ее с огромным вниманием. И хотя она обращена к монахам, тем не менее в Православной Церкви мы не отличаем мирян и монахов: все мы подвизаемся, чтобы исполнить волю Божию – освящение наше (см. 1 Сол. 4: 3) (конечно, каждый в свою меру, по своим возможностям и силам).
Преподобный Иоанн Лествичник начинает свое слово, называя гордость безумной (на греческом «безглавой»: για την ακέφαλη υπερηφάνεια). То есть он называет гордость безглавой, поскольку эта страсть не связана с предыдущей, она не рождается где-то еще, но это страсть, рождающая всякое иное зло в человеке, как мы видели ранее. Отец Софроний говорил, что в этой страсти заключена сущность падения человека, суть расположения человека ко греху. Святой Иоанн продолжает, стараясь дать нам ясную картину того, что есть гордость: «Гордость есть отвержение Бога» (Слово 23, «Лествица», преподобный Иоанн Лествичник). Мы рассмотрим каждое определение, которое он дает, чтобы примерно понять, что такое гордость.
Почему Иоанн Лествичник называет гордость отвержением Бога? Он называет ее так, потому что гордый человек не может превзойти свое «я», свою индивидуальность, не может общаться с Богом, поскольку для того, чтобы иметь общение с Богом, иметь связь с Ним, первое, что ему необходимо сделать, – отречься себя. Помните слово Божие: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16: 24). Отвержение себя – это первое движение, необходимое, чтобы мы обрели настоящие отношения с Богом, отношения, состоящие в общении. Конечно, отвергнуться себя – это не означает стереть нашу личность, наше существо, но отречься от ветхого человека, отречься от всего того, что отделяет нас от Бога, все, что противится той борьбе, которую мы ведем, чтобы воспринять освящение и стать сосудами, могущими воспринять Духа Святого. Итак, гордость – это отвержение Бога, поскольку гордость противостоит заповеди Божией, не может покориться ей. Знаете, что падение случилось оттого, что человек преступил заповедь? Нарушение заповеди сделало человека, по сути, безбожным. В каком смысле? Разве он не верил в Бога? Он верил в Бога, но прервалась его связь с Богом, он лишился возможности общаться с Богом. Таков безбожный человек (атеист): он не может иметь отношений с Богом, даже если он говорит и верит, что Бог существует.
Далее Иоанн Лествичник называет гордость бесовским изобретением. Она является изобретением бесов, потому что диавол воплощает в себе гордость. Демоны, поскольку они отвергли Бога полностью, стали абсолютно отрицательными существами по отношению к любви Божией, в них нет никакой связи с любовью Божией: полная самодостаточность (автаркия), жесткий индивидуализм. Они полностью закрываются в своем эгоизме, а это не дает им никакой возможности общаться ни с Богом, ни с человеком, ни с творением. Они все отвергают и враждебно настроены ко всему. Итак, гордость – это изобретение демонов.
Далее преподобный Иоанн говорит, что гордость есть презрение человеков. Если человек не может по причине своей обособленности, своей замкнутости на самом себе общаться с Богом, то он не может общаться и ни с каким человеком. По этой причине преподобный Иоанн называет гордость презрением человеков. Гордый человек легко уничижает другого, легко отвергает его, легко осуждает, легко обвиняет, порицает, легко может сделать зло именно потому, что не может полюбить другого человека, не может установить связь с ним. Поэтому осуждение – это большой грех и считается святыми отцами великим падением, поскольку, если разобраться, осуждение – это отсутствие любви. Если мы имеем любовь, то не можем никого осуждать, презирать и уничижать. Но чтобы нам стяжать любовь, нужно вырваться из оков своего «я», отвергнуться себя, чтобы мы могли встретить Бога и другого человека.
А чуть ниже преподобный называет гордость «матерью осуждения, исчадием похвал». То есть гордость рождается в человеке от похвал. Если кому-то нравится, что его хвалят, а тем более если человек верит похвалам, которые ему воздают люди, то он падает в гордость. Это очень тонкий момент. Мы уже недавно говорили, что нам подобает говорить другим добрые и хорошие слова. И святые отцы сподвигают нас говорить добрые, ободряющие слова, такие слова, от которых человек будет ощущать себя приятно. Таким должен быть язык христианина, мы не должны быть малодушными по отношению к другому человеку, напротив, мы должны быть щедрыми, с открытым сердцем, наполненными любовью, чтобы человек почувствовал силу и дерзновение продолжать свой подвиг. Однако требуется и рассуждение.
Во-первых, мы должны говорить то, во что мы верим и что действительно ощущаем, и мы будем говорить так, как подобает христианину, поскольку заискивание и угодничество не приличествует христианину. А тот, кто слушает, воспринимает похвалу, должен быть очень внимательным, не привязываться к наслаждению, которое он испытывает, слушая такие слова, а помнить, что он человек, имеющий абсолютную необходимость в милости Божией, и, если в нем есть нечто доброе, то это принадлежит действию благодати Божией, а не нашим недостаточным силам.
В каком-то месте преподобный Иоанн Лествичник говорит, что если ты хочешь повредить духовному человеку, начни его хвалить: «Господь часто скрывает от очей наших и те добродетели, которые мы приобрели; человек же хвалящий нас или, лучше сказать, вводящий в заблуждение, похвалою отверзет нам очи; а как скоро они отверзлись, то и богатство добродетели исчезает. Льстец есть слуга бесов, руководитель к гордости, истребитель умиления, губитель добродетелей, отводитель от истинного пути» (Слово 22. «О многообразном тщеславии», 10–11). Похвалами мы создаем опасность для человека впасть в гордость, а гордость – это не что иное, как полное отсечение себя от воли Божией.
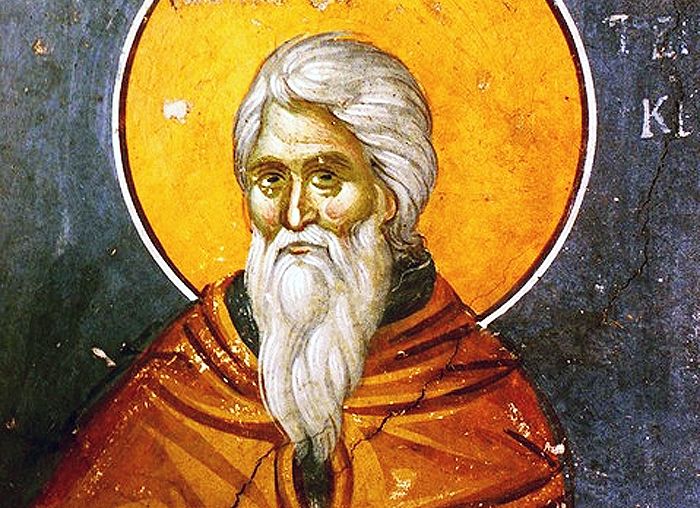
Также гордость называется знаком бесплодия души, то есть когда человек имеет гордость, бывает одержим этой страстью, это показывает, что он не имеет ничего внутри себя, поскольку в нем отсутствует благодать Божия. А когда благодать отсутствует, то в человеке нет ничего доброго. Могут быть внешние элементы добродетелей, добрых дел, скажем так, или набор церковных привычек и тому подобных вещей, которые характеризуют церковного человека. Однако духовный плод это не что иное, как благодать Божия. И если душа хотя и придерживается всех внешних порядков, однако не имеет внутри себя плодов духовных, не имеет благодати Божией, она остается бесплодной. А бесплодность проявляется, когда душа охвачена гордостью и полагает, что она представляет из себя нечто. Ведь начало и конец гордости – это уверенность человека в том, что он представляет из себя нечто, что он отличается от других, обладает чем-то особенным, и полагает, что идет правильным путем.
Также гордость есть отгнание помощи Божией: она отгоняет помощь Божию, удаляет ее от себя. Бог не может быть соработником гордому человеку. Один из святых говорил об этом. По какой причине? Потому что гордый человек закрыт, а Бог не вмешивается в его свободу, не отвергает его личности, насильно не входит внутрь его, чтобы соработничать ему. Поскольку человек по причине гордости закрывает всякий вход благодати Божией, то он остается один – беспомощный, лишенный благодати. И таким образом гордость становится гонителем помощи Божией. А поскольку она так проявляет себя, то становится и «предтечей умоисступления, виновницей падений». Здесь преподобный Иоанн называет гордость предтечей исступления. То есть она предваряет умопомешательство, безумие, поскольку гордый человек выходит за границы привычной человеческой логики.
Помню, как я спросил одного старца: «Каким образом мы можем стать смиренными, начать мыслить смиренно?», а он ответил: «Это довольно просто – мыслить смиренно! Надо мыслить логически». И он стал анализировать с помощью логики, насколько смиренно положение человека, который находится во власти смерти, во власти тления, страстей, падений, удаления от благодати Божией, внутреннего беспорядка, неестественных движений души, – наша логика понимает все это, видя, как это действует внутри нас. Смирение, смиренномудрие – это дело логики. Правильная логика учит нас быть смиренными. Гордый человек, который думает, что он представляет из себя нечто, что он все знает, отличается от других, что он продвигается очень хорошо, что он выше других людей, по сути, является безрассудным, абсурдным. Он делает такие вещи, которые со стороны вызывают у людей вопрос: «Почему этот человек так себя ведет, так одевается, действует таким образом?»
Действительно, гордость – это опьянение, головокружение, замутненность ума. Все это становится, как говорит Иоанн Лествичник, предтечей умоисступления, виновницей падений, что вполне естественно. Особенно это касается духовных людей, пребывающих в Церкви. Когда с ними случаются падения, падения весьма грубые, которые позорят их, делают буквально посмешищем, нужно поискать корень этих зол в гордости.
Пророк Давид говорит: «Прежде даже не смиритимися, аз прегреших: сего ради слово Твое сохраних… Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим» (Пс. 118: 67, 71). Он благодарит Бога за то, что смирил его, ведь через смирение он познал правду и закон Божий. Поскольку, прежде чем смириться, он обретался во власти гордости и сам стал причиной падения и греха. Это удивительно, что гордость достигает такой степени, что даже телесная брань и падения случаются с человеком не из-за движений телесных, блудного похотения, объядения и тому подобного, а из-за гордости.

Часто мы видим людей, которые молятся, постятся, совершают бдения, ходят в храм, очень стараются, однако, несмотря на это, имеют очень сильную борьбу с телесными страстями, которые прежде всего смущают, смиряют человека. Если присмотреться, то с этим сталкиваются не плотские люди, не сластолюбивые, не страдающие объедением, невоздержанием, а люди, в глубине души которых скрывается расположение к гордости. Если бы они были успешными в каких-то внешних вещах, в нравственном отношении, то они стали бы такими гордыми и жестокими в душе, что оказались бы в очень тяжелом духовном состоянии. Поэтому, падая в такие грехи, смиряясь, они обретаются в гораздо лучшем состоянии, чем были бы, нравственно сохраняя невинность, но пребывая в гордости, без следа смирения и покаяния.
Мы уже говорили в прошлый раз, что духовность не измеряется внешними делами или нравственностью. Нравственность – это результат, отражение духовной жизни, она сопутствует духовной борьбе. Но Бог оценивает духовного человека по глубине его покаяния и смирения. По этой причине Христос, когда пришел в мир, обличал канонически и нравственно безупречных фарисеев, высказывался очень жестко по отношению к ним, в то время как грешных людей, нравственно павших, осквернившихся, нечистых, исполненных греха, но понимавших, что они грешники, что они недостойны благодати Божией, Христос принимал, оправдывал и подавал Свою благодать, чтобы очистить их. Это тонкий момент, который важно понимать, особенно нам, находящимся внутри Церкви, чтобы мы не ограничивали свою духовную борьбу внешними делами, но достигали бы смирения, понимая, что наша духовность измеряется глубиной смирения и покаяния, к этому надо прилагать особенное усилие, сосредотачивать силы души на смирении. Если мы держимся смирения, то движемся правильно, пусть даже и внешне все не так гладко, если внешне мы падаем и нас обуревает множество страстей.
Еще святой Иоанн говорит здесь, что гордость – это источник гнева. Довольно простой критерий, чтобы проверить, есть ли в нас гордость, – это посмотреть, гневаемся ли мы. Если гневаемся, раздражаемся, можно больше ни о чем не спрашивать, не требуется других доказательств. За раздражением скрывается эгоизм, скрывается гордость. Вспомните, когда ученики спрашивали Христа, Он ответил им: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11: 29). Когда Христос открыл Своим ученикам, всем нам содержание Своего сердца, то показал, что в Его сердце обитают кротость и смирение, то есть вещи взаимосвязанные. То есть содержание Христова сердца – это смирение и кротость, значит, и наше сердце должно быть наполнено тем же.
Представьте себе, что с нами происходит, когда мы раздражаемся, гневаемся, выходим из себя, а часто полагаем, что этот гнев весьма оправдан, называя его подчас святым, праведным гневом. Раздражаемся на какие-то вещи, гневаемся «праведным гневом» на нравственные вещи, на то, что происходит в Церкви, и порой, думаем, что хорошо поступаем. Но это не хорошо. Гнев не есть хорошо. Святые отцы говорили: «Если гневливый и мертвого воскресит, молитва его не богоприятна». Даже если мертвых воскресит гневливый человек, то это не будет угодно Богу. Представьте себе человека, творящего чудеса и воскрешающего мертвых! Но поскольку он одержим гневом и раздражением, он далек от Бога.
Однако мы должны знать, что раздражительность – это и сила души, которую Бог вложил в нашу природу в творении. Но раздражение должно быть направлено не на наших братьев, товарищей, а против наших грехов. Гнев должен направляться против страстей, против демонов, а не против творения, братьев наших или даже нас самих. Это аксиома духовной жизни: где существует раздражение, где есть гнев, упрямство, там обязательно есть гордость, не нужно других исследований. И если мы хотим понаблюдать за собой, испытать себя, то увидим, что за всем этим скрывается грубая страсть гордости, которая проявляет себя через страсть гнева.

Далее преподобный Иоанн характеризует гордость как дверь лицемерия. Гордый человек не принимает образ самого себя, не хочет принять себя. Знаете, как это сложно? Много страданий в этом мире, множество психологических проблем, множество духовных проблем начинаются с того, что мы не принимаем себя такими, какие мы есть. И я думаю, это очень грубая вещь в духовной жизни, когда мы прикрываем себя, не хотим видеть себя самих, даже, точнее будет сказать, мы не выносим видеть себя и понимать, кто мы такие. Часто приходят люди – плачут, скорбят, страдают: «почему я вынужден делать такие вещи, почему я должен так думать, почему нужно таким образом поступать, почему у меня такие страсти, почему такие помыслы?» И мучаются, страдают очень сильно от всех этих «почему».
Но я думаю, если мы станем думать смиренно, разве что-то будут значить эти «почему»? Что иное мы могли думать и иметь внутри себя? Может быть, мы богоносцы и боговидцы? Может быть, это наше естественное состояние – созерцать Бога, а мы приняли нечистый помысл, что несвойственно нашей природе, и у нас возникают все эти «почему»? А поскольку мы понимаем, что мы – падшие существа, веруем, что таково наше положение, что мы несчастные, мертвые перед Богом, то что иное может порождать тело мертвеца, кроме разложения, зловония, нечистоты? А раз мы таковы, тогда нет места этим «почему»: «почему я так думаю, почему так поступаю?» Я так поступаю, потому что было бы невозможно действовать иначе, будучи таким, какой я есть. А раз я такой – мертвый, труп (скажем так), далекий от Бога, то надо прекратить задавать эти тысячу и одно «почему» и начать предавать свое жалкое состояние в руки Божии. И с болью умолять прийти Того, Кто животворит вся, прийти оживить и меня, и мою душу. Если Христос войдет в нас, тогда изменятся силы и расположения нашей души. А без благодати мы не сможем сделать ничего иного, как только производить всякую нечистоту, извращение, страсти. И все эти «почему» не нужны. Ответ на них довольно прост: каковы мы есть, таковое и производим из себя. Таково естественное состояние падшего человека, лишенного благодати Духа Святого.
А поскольку мы говорим сейчас о лицемерии, скажем, что эта слабость нашей души подталкивает нас надевать маски и изображать из себя нечто перед людьми, а порой и перед Богом, и это доходит до того, что мы становимся лицемерными с самими собой, потому что мы не хотим говорить с собой прямо, чтобы не распознать своих ошибок, не взглянуть на действительность. По этой причине нам необходимо иметь общение с духовным отцом, который в точности сможет нас уведомить (конечно, с рассуждением, насколько мы сможем понести, чтобы не сокрушить нас) о том, в каком состоянии мы сейчас обретаемся, какие страсти действуют в нас.
Одна вещь, которую мы можем стяжать в духовной жизни, а особенно в монашеской жизни, это локализация, ограничение страстей. Иногда люди предполагают, что мы уйдем в монастырь, чтобы стать ангелами, будет жить там ангельской жизнью. Но когда мы приходим в монастырь, замечаем, что все страсти, которые описываются в святоотеческих книгах, начинают проявляться. Помню, как один послушник говорил мне: «Что же со мной случилось? В миру я был святым человеком! А только пришел в монастырь, все страсти, о которых говорят святые отцы, вылезли наружу». С человеком, который вступает на путь духовной брани, начинают происходить странные вещи: начинают выходить на поверхность необычные страсти, рождаться чудаковатые помыслы, действия, которые и он сам не может себе объяснить. Все это рождается во внутреннем мире. И это очень полезно для человека, поскольку это выходит наружу, локализуется и излечивается. Достаточно, чтобы человек действительно имел расположение и помощь, чтобы были силы справиться и исцелиться от своих страстей.
Далее преподобный Иоанн называет гордость твердыней бесов. Когда демоны что-то строят, устраивают для нас западню, они используют нашу гордость для ее укрепления. Каждое дело, которое затевает против нас враг нашего спасения, будучи подкрепляемо нашей гордостью, бывает успешно и утверждается. Напомню вам одну историю из жизни Антония Великого. Один раз во время молитвы духовными очами он увидел землю, опутанную сетями диавола. Вся земля была покрыта этими сетями. Преподобный Антоний возопил: «Кто же может избежать этих сетей лукавого?» Бог же ответил ему: «Смиренномудрие». Смирение сокрушает все ловушки и коварства, воздвизаемые против нас. Что бы ни случилось, в смиренном человеке это не находит места, а гордость укрепляет воздвигаемые против нас козни, потому гордость становится и хранилищем наших грехов. Гордый человек никогда не может получить прощение своих грехов, потому что он не может покаяться и изменить образ мыслей. Поскольку у него нет сил восчувствовать свои грехи, посмотреть открыто на них, потому он не может освободиться от груза и тяжести многих грехов, обретающихся в нем.
И таким образом гордость становится «немилосердия причиной», то есть гордый человек не может проявить милосердие ни к кому. Это еще один критерий гордой души. Видите, мы находимся где-то, узнаем, что случилось трагичное событие в жизни, причинившее боль какому-то человеку. Произошла трагедия, а наше сердце вовсе не движется в сторону милосердия и сочувствия. Сердце не сопереживает, хотя внешне мы можем сказать какие-то слова, что-то пожелать: «Потерпите, Бог вас не оставит, поможет», а сами ничего не делаем, особенно если нужно как-то пожертвовать собой, дать деньги, оказать милостыню бедному человеку, то мы найдем оправдания, весьма справедливые и совсем несправедливые, объяснив, что этому человеку вовсе и не следует помогать, что он может и иначе справиться, потерпеть. Мы ничем не жертвуем и пребываем в бессердечности и жестокости, которая покрывает нас и не позволяет ничему тронуть наше сердце. А это не что иное, как признак гордости в нас, то есть замкнутости на самом себе, самодостаточности и самодовольства: раз у нас все хорошо, мы довольны и удовлетворены, то не нужно переживать о страдании другого человека.
Гордость – «неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья». Видите, когда какой-то человек оступился, совершил ошибку, гордый начинает бесчеловечно и жестоко выражать свое отношение к падению другого, говорить: «Как ужасно он поступил, он должен быть наказан, его надо унизить, его нельзя прощать, никакого снисхождения, раз он такое сотворил!» А такие выражения есть не что иное, как порождения гордости, выражение жестокости этой души. Христос, имевший смиренное сердце, даже ту женщину, которая была взята в прелюбодеянии, не осудил, сказал: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8: 11). Он обнимал каждого человека и подавал ему силу и дерзновение правильно продолжать свою борьбу, чтобы он нисколько не почувствовал упадок духа и уныние по причине своих грехов. По этой причине, когда мы заметим в себе критическое, немилостивое отношение к другому человеку из-за его грехов, будем знать, что это проявление гордости.
Читая о жизни преподобного Силуана, мы видим, что он всю свою жизнь провел в великой скорби, в потоке слез о боли и грехе всего мира. Помню одного духовного человека, как он услышал однажды об убийстве, о том, что некий человек убил другого, и начал плакать. Его спросили: «Геронда, что ты плачешь? Потому что умерла эта бабушка? Она же старенькая уже была». «Я плачу не о бабушке, а о том, кто убил ее. Ведь та, которая умерла, в руках Божиих, а вот тот, кто ее убил, достоин многих слез». Вместо того, чтобы бесчеловечно судить, геронда вошел в его положение, начал скорбеть, плакать, грустить о том, кто совершил преступление. Видите, если человеческая правда начинает осуждать преступление, то Божия справедливость плачет о преступнике. Если и мы научимся плакать о преступнике, узнав о преступлении, начнем думать о том, в каком духовном состоянии, в каком мраке, в каком рукотворном аде находилась душа этого человека перед совершением преступления и после него, это сокрушает сердце и заставляет нас болезновать, страдать, плакать о том человеке, который обретается в этой жизни в таком аду.

«Гордость есть корень хулы», – завершает преподобный Иоанн Лествичник, то есть гордость – это движение хулы на Бога, восстания против воли Божией. Ведь хула – это не только произнесение неподобающих слов в отношении Бога (хотя и это ужасная вещь, даже просто услышать такое), но хула – это и расположение человека противостоять Богу, отвергать Его волю. Такое хульное расположение начинается от гордости.
Есть целые труды святых отцов, в которых рассмотрена страсть гордости. Конечно, что бы мы ни сказали, этого будет мало. Но мы должны знать о том, что гордость является сердцевиной грехов, а противоположное ей – сердцевиной добродетелей. В то время как гордость есть корень страстей, смирение есть корень и суть духовной жизни.
Однако, чтобы стяжать смирение, недостаточно будет наших умозаключений и измышлений. Святые отцы говорят, что существует первый этап – смиренномудрие: начать мыслить смиренно, мыслить логически, понимая, что мы слабые и больные. Однако, чтобы прийти к смирению, которое есть дарование Духа Святого, дарование Божие (которое является содержанием сердца Христа), человеку необходимо пройти через множество испытаний. По этой причине нам нужно пережить много скорбей. Зачастую наши падения бывают необходимыми и полезными. Если мы воспринимаем их духовным образом, то они помогают нам приблизиться к смирению. Это странная вещь: душа не воспринимает в своих глубинах логические измышления, но ей необходимо полное потрясение, чтобы проникло глубоко внутрь, до глубин существа, чтобы там было положено в основу духовной работы смирение. По этой причине смирение приходит через множество страданий и неудач, через множество испытаний, переворотов, через клевету, скорби и борьбу. Все это проникает внутрь нас и полагает надежное основание – смирение.
В Священном Писании, в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, делается некое предупреждение человеку уготовить себя к духовной работе: «Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок» (Сир. 2: 1–3). Приготовься вступить в это пространство. Чтобы совершилась работа, необходимо положить основание. А основание не видно, оно – в глубинах земли, подобно фундаменту, который держит все здание. Фундаментом духовной жизни является смирение. Однако, чтобы пришло смирение, чтобы отверзлись недра нашей души, необходимо прийти множеству скорбей. Это было явлено в житии множества святых. Мы должны быть готовы не смутиться, не задаваться вопросом: «Почему так происходит? Почему с нами случаются скорби, препятствия, неудачи, трудности?» Таков путь духовной жизни. Раз мы просим у Бога духовных состояний и спасения, то Бог даст нам пройти точным и верным путем.
Один святой подвижник на Святой Горе говорил: «Мы просим у Бога дать нам смирение, словно это сахар. Мы приходим к бакалейщику и просим у него сахара, он взвешивает два килограмма в кулек, мы берем его и уходим». Но когда мы просим у Бога смирения (а это необходимо, иначе мы не сможем работать на духовном поприще), тогда придет час, когда кто-то нас оскорбит, кто-то унизит, когда нас обесчестят, несправедливо поступят с нами. Если мы имеем духовные очи отверстыми и сумеем воспринять эти вещи правильно, тогда примем то, чего мы просили у Бога, воспользовавшись благоприятной возможностью для смирения, стяжаем необходимый материал, чтобы положить в основание смирение. А если мы смутимся, то потеряем возможность, которую сами просили у Бога. Ведь когда мы молимся и просим Царствия Божия, то мы просим одновременно и всю эту процедуру, которая необходима, чтобы пришло Царствие Божие. Следовательно, мы просим Бога, чтобы Он нас правильно воспитал, а через воспитание Его Отеческой любовью и заботой, чтобы мы подготовились, стали бы почвой удобренной и готовой, местом, в котором сможет действовать Дух Святой.
– Я бы хотел, чтобы Вы сделали одно уточнение. С того момента, как мы ощутим, что согрешили, мы просим прощения у Бога и автоматически прощаем сами себя? Или оставляем все как есть, чтобы все разрешилось, и в следующий раз стараемся быть внимательными?
– Когда мы падаем в какой-то грех, первое, что мы делаем, это обращаемся к Богу через покаяние, чтобы Он исцелил ту травму, которую произвел в нас грех. А второе, что мы делаем, – это полагаем перед нашим духовным отцом, который наблюдает за нашим духовным путем, этот случай падения. Принимаем от него подходящее духовное лекарство, с помощью которого мы сможем устранить последствие греха. Конечно, мы можем и исходя из своего духовного опыта определить для себя необходимые меры, чтобы освободиться от страсти. Дело не в том, что мы должны претерпеть лишения и страдания, чтобы Бог простил нас. Лишения или епитимья, которые мы налагаем на себя сами (или наш духовный отец), нужны не для того, чтобы получить отпущение греха.
Отпущение было дано человеку Крестом Христовым. Начнем с этого. И оно подается всякий раз, когда человек обращается к Богу и просит у Него прощения. Бог прощает и отпускает полностью, у нас не должно быть никакого сомнения по этому поводу – Бог принимает человека, оставляет рядом с Собой и прощает. Однако, несмотря на прощение, грех означает и рабство: «Ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Пет. 2: 19). Раз человек был побежден грехом, следовательно, этот грех имеет власть над ним. Потому злострадание, поднятие на себя труда в духовной жизни необходимо не ради оставления грехов, а для освобождения от привычек и страстей, склоняющих ко греху. В этом заключается смысл подвига и злостраданий. Отпущение дается человеку в покаянии, в этом не должно быть никакого сомнения.
– Как возможно побороть гнев и раздражение в нашей повседневной жизни?
– Как и со всякой страстью, проявляющейся в человеке, мы боремся, отвергая ее, не давая ей развиться. Один из практических способов – не дать проявиться страсти, когда мы ее ощутили внутри себя, даже если мы пришли в очень сильное смущение. Если мы сможем в этот момент сдержать себя, не станем противоречить, не станем ничего говорить. Но не будем останавливаться на этом. Держа ситуацию, обратимся к Богу и станем просить Его, чтобы Он посетил нас и изменил душу добрым изменением, чтобы в нас не было совсем этой страсти. Каждый раз, когда мы предаемся какой-то страсти и каемся, мы потихоньку разрушаем оковы, держащие нас в плену, а если не каемся, то эти оковы становятся еще крепче. Начинаем с того, что осознаем, что мы поступаем плохо, что это действие страстей. Когда мы раздражаемся и гневаемся – это проявление гордости и эгоизма, это страсть, которая разлучает нас с Богом. Когда мы осознали это, тогда постепенно, каждый раз, когда нападает эта страсть, мы начинаем скорбеть, каяться и исповедовать эту страсть. И так с помощью Божией и через нашу борьбу она понемногу отступит. Но даже если она не отступит быстро, каясь в этой страсти, мы находимся на пути спасения. Покаяние идет в учет, а не внешние дела. Ведь мы можем и не гневаться никогда, а пребывать нераскаянными.
– «Гневайтеся и не согрешайте» (Еф. 4: 26). Я этого не понимаю. У меня есть одна подруга, которая ходит в храм. Когда она видит некоторых людей, их поведение, она начинает раздражаться. Я спрашиваю ее: «Почему ты гневаешься?» «Гневайтесь и не согрешайте», – отвечает она.
– «Гневайтесь и не согрешайте», поясню, что это означает. Если вы помните, мы говорили, что раздражительность – это сила души, которую Бог вложил в нас, в нашу природу в творении, чтобы мы пользовались ей для того, чтобы подвизаться приобрести добродетели и отказаться от страстей и грехов. Она нужна не для того, чтобы метать молнии в других людей. Ведь даже движение души к осуждению ведет к раздражению. Прежде чем раздражиться, мы осудили человека. Кто тебе подсказал, что брат плохо себя ведет? Твое осуждение. Ты решил, что он плохо одет, и раздражаешься. Если у тебя благие помыслы, то ты думаешь: «Хотя он и не очень хорошо одет во внешнюю одежду, я гораздо хуже одет изнутри. И кто я такой, чтобы судить моего брата? Есть Бог и есть люди, отвечающие за порядок, пусть они ему подскажут. Разве я буду рушить свой внутренний мир, чтобы оценивать и обличать других?» И все эти обличения и поучения происходят не только от гордости, но и от очень нездорового духовного состояния. Поскольку, когда мы уверены, что мы блюстители Церкви и нравственности, тогда мы становимся безжалостными судьями других людей. И сколько раз все мы были побеждаемы этим кажущимся благочестивым гневом, но умели только ранить другого человека, а по сути наносили травму самим себе. После этого требуется глубокое покаяние. Ведь это не мы исправляем человека, а Бог, не нам принадлежит суд, а Богу.
(Беседа 3-я. Продолжение следует.)
Перевела с греческого Мария Орехова


